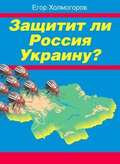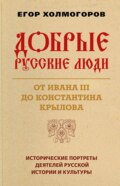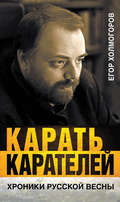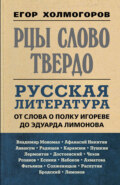Егор Холмогоров
Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики. От «Викинга» и «Матильды» до «Игры престолов» и «Карточного домика»
Матильда и Кассандра
«Матильда»
Россия, 2017.
Режиссер Алексей Учитель.
Сценарист Александр Терехов
Ситуация с фильмом «Матильда» всё точнее описывается новомодным словечком «хайп», то есть такой шумливый и скандальный ор, когда каждая сторона извлекает из раскрутки истерии выгоду а потому стремится отметиться в шумовом потоке. Фильм даже не вышел, а представители борющихся лагерей уже готовы начать физическое выяснение отношений.
Опасным последствием возникшего противостояния стало требование Рамзана Кадырова запретить прокат фильма на территории Чечни, за которым обещаны аналогичные требования ряда других регионов. Подобный раскол единого идеологического и культурного пространства России ещё опасней, чем кино любого, самого растленного содержания.
Да и расстановка «плюсов» и «минусов» в этом региональном противостоянии весьма провокационна: консервативно-монархическая Чечня, почитающая православного Государя, против Москвы или Екатеринбурга, над Государем глумящихся. Диспозиция откровенно вредная, хотя бы потому, что настраивает столичную молодёжь, части которой не нравится суровый исламский стиль города Грозного, против русской монархии и русской исторической традиции. Нет уж, если запрещать «Матильду» или ограничивать её прокат, то на территории России в целом.
Апологеты Учителя настаивают на том, что скандал высосан из пальца ради пиара депутата Поклонской. Мол, киношники имеют право на исторические вольности и изменение облика, поступков и мотивов исторических героев. В конечном счёте, и фильмы про Цезаря и Клеопатру, и блокбастеры про Жанну дАрк – чистейшей воды историческая выдумка, где совпадение с реальными фактами и соответствие показаниям источников лишь минимально.
Однако подобные ссылки на историческую вольность уместны, когда речь идёт о постановках, касающихся отдалённых событий и эпох, которые уже никого не задевают. Шашни Цезаря с Клеопатрой для всех зрителей имеют лишь академический интерес. А вот если бы кто-то снял фильм в котором Жанна дАрк представала бы настоящей ведьмой или английской шпионкой – сомнений нет, что фильм вызвал бы во Франции, где Орлеанская дева не только национальная героиня, но и католическая святая, по меньшей мере, непонимание и протесты.
Лев Гумилёв в своё время говорил, что после Наполеона никакой истории нет, есть пропаганда. За прошедшие десятилетия граница, быть может, чуть сдвинулась. Но вот всё, что после Крымской войны, – это по-прежнему пропаганда. Всерьёз ссылаться на право художника вольно обращаться с историей не приходится. «Матильда» не исторический, не костюмно-исторический, не фэнтезийно-исторический фильм. Перед нами пропаганда, как пропагандой является любой фильм о Ленине, Сталине, Гитлере или Черчилле. Как пропагандой британского патриотизма эпохи «брэкзита» является нашумевший «Дюнкерк».
Пропагандой чего является «Матильда»? Пропагандой замшелого антимонархического мифа, буйное цветение которого в мозгах российского общества привело к падению русской монархии в 1917 году и погружению России в кровавый ад революционной смуты, гражданского братоубийства, раскулачивания и террора. Перед нами, пожалуй, один из самых кровавых мифов в истории: «Распутин спал с царицей», «императрица – шпионка Вильгельма», «царь-тряпка», «Николашка кровавый» и прочее были пулемётными лентами, которые в последовавшие за свержением монархии 40 лет убили миллионы людей, в том числе немало и самих пропагандистов этих мифов.
Царефобия привела от екатеринбургского подвала к Бутовскому полигону с той же чёткостью, с какой нацизм от «ночи длинных ножей» перешёл к Дахау. Представим себе, что современный германский режиссёр снимает фильм из жизни еврейской банкирской семьи в Германии 1920-х годов. Герои подкупают чиновников, наживаются на крови и поте немецких пролетариев, предаются безудержному разврату, плюют на кресты и т. д. Очевидно, что каждый здравомыслящий человек увидит в подобном произведении неонацистскую пропаганду. И реакция будет довольно жёсткой.
К сожалению, большинство защитников «Матильды» явно недостаточно подробно представляют себе сюжет. Они полагают, что фильм посвящён романтическим отношениям молодой балерины и юного наследника престола, а потому радостно сообщают: «Я ещё с детства слышал, что у Кшесинской и Николая был роман. А что тут такого? Принцу нельзя сексом заниматься?». В системе наших представлений о нравах придворных обществ конца XIX века в таком романе и в самом деле трудно найти что-то особо скандальное, даже с учётом последующей канонизации императора как страстотерпца.
Одна беда – никакого «секса» между Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем не было. Дневниковые записи обеих сторон свидетельствуют о лёгких платонических отношениях, которые именно благодаря позиции Наследника так никогда и не стали чем-то большим, а после его обручения с принцессой Алисой Гессенской и вовсе прервались. В хранящихся в Музее имени Бахрушина дневниках Кшесинской её эротическое фиаско с наследником описано довольно откровенно. Таким образом, «знание» обывателя о романе Цесаревича и Кшесинской является ложным и документально опровергнутым.
Но дело, собственно, не в этом. Фильм Учителя вызывает возмущение не тем, что освещает этот полумифический роман, а тем как он это делает. Он от начала и до конца является гнусной клеветой, причём не на одного лишь Николая, но на его отца, мать, жену, весь дом Романовых.
По сюжету император Александр III, якобы недовольный решением наследника жениться на Алисе Гессенской, почти насильственно «подсовывает» ему молодую балерину для блудного сожительства и на смертном одре благословляет подобные отношения.
Если вспомнить, что император Александр умирал в Ливадии от тяжёлой болезни в присутствии святого праведного Иоанна Кронштадтского, державшего руки на его голове, то, получается, и благословение разврата должно было произойти в присутствии этого святого – ещё один плевок в Церковь и изгаживание образа одного из наиболее уважаемых русских царей, человека с абсолютно ясным нравственным стержнем, не терпевшего «балеринок», «морганатических браков» и прочего (о воззрениях Александра III на семейные ценности подробно писал в своих мемуарах граф Витте).
Отношения Николая и Кшесинской в фильме не только не заканчиваются с помолвкой с Алисой-Александрой, как это произошло с действительными отношениями цесаревича и балерины, но и цветут пышным цветом. Глумливо показывается императорская коронация, на которой царь якобы падает в обморок, а русская корона катится по полу. Смакуются вымышленные подробности Ходынской катастрофы, не имевшая места в действительности «гора трупов», которую якобы разглядывает царь. Выдумывается желание Николая бежать с Матильдой и отречься от престола.
Но и это только начало наброса грязи – подлинным днищем оказывается подробный показ вымышленных от начала и до конца попыток императрицы Александры Фёдоровны «извести» соперницу при помощи оккультизма, ворожбы, кровавых жертвоприношений и прочего. Здесь перед нами чистая выдумка, не основанная даже на сплетнях и молве. Будучи человеком возвышенно-идеалистического преставления о мире и строгой пуританской морали,
Александра Фёдоровна (Алиса Гессенская) попросту непредставима за подобными грязными занятиями, да у неё и не было никаких оснований для беспокойства: не существует ни одного свидетельства или даже предположения, что супружеская верность императора Николая II когда-либо была нарушена.
По сути, мы здесь наблюдаем инверсию грязного мифа про царицу и Распутина. Хвататься за последний было бы сегодня, после всестороннего исследования историками данного вопроса, попросту рискованно для режиссёра. И тогда он решился придумать «Распутина в юбке».
Но цель осталась та же самая – представить последних русских государей Александра III и Николая II, последовательно придерживавшихся национальных, консервативных, русофильских убеждений и при этом работавших над индустриализацией и модернизацией страны, в виде шутов гороховых, развратников, трусов, идиотов и интриганов. А тем самым – оправдать смуту 1917 года, подогнать аргументы «вот поэтому народ их и сверг». Перед нами новая инкарнация того самого царефобского мифа, который закончился кровавым детоубийством в Екатеринбурге.
Все танцы с Матильдой – это не поиск гламурной квазиисторической клубнички, а пропаганда революции и разрушения исторической России. И, разумеется, трудно не увидеть здесь подстрекательства новой смуты, так как от оценки событий 1917 года напрямую зависит готовность их повторить.
Нас прямиком подталкивают к новому смутному времени. И в свете этого «зацикленность» Натальи Поклонской и её сторонников на борьбе с «Матильдой» выглядит более понятно. Депутат – не сумасшедшая, которая «влюблена в покойного мужчину», как грязно ёрничают шутнички. Она не «борется с призраками». Она пытается отклонить от нас будущее, которое обречено наступить, если мы будем скакать и скакать по одним и тем же граблям.
Без устали безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою падшей в прах».
Очень бы не хотелось, чтобы Поклонская оказалась Кассандрой.
Николай без Матильды
Царствование императора Николая II и эра кинематографа начались почти одновременно. 4 мая 1896 года в Петербурге состоялся первый в России киносеанс, а 14 мая 1896-го – коронация императорской четы в Москве была запечатлена на киноплёнку представителем братьев Люмьер Камиллом Серфом и стала одним из первых исторических событий, отражённых в кино.
Кино сопровождало Государя на протяжении всего его царствования: снимались парады и встречи с народом, торжества в честь 300-летия династии Романовых. К моменту отречения скопилось около 40 тысяч метров хроники с царём. Россия быстро стала одной из главных кинематографических держав мира, что ещё раз опровергает русофобский миф о её отсталости.
В 1920-е годы, когда в СССР фабриковалось множество фальшивок, была сочинена и даже опубликована в журнале «Советский экран» подложная резолюция царя, якобы осуждавшего вред кинематографа. На деле отношения Романовых с кинематографом были до революции вполне счастливыми. Сам Государь очень любил кинематограф и смотрел фильмы часто и с удовольствием. В дни пребывания царской семьи в Ставке в Могилёве в одном из городских театров был оборудован кинотеатр, заполнявшийся до отказу каждый вечер. Показывали военную хронику съёмки царских поездок и игровые фильмы, их тогда называли пьесами.
Государь, по воспоминаниям дежурного генерала ставки Кондзеровского, даже выступал цензором: однажды генерал высказал сомнения, можно ли показывать фильм, где влюблённые «уж больно много целуются». «Только целуются, и больше ничего? – спросил Государь. – Так это сама жизнь, что ж тут дурного».
Наследник цесаревич Алексей оказался большим поклонником сериалов. Он с нетерпением ждал каждой новой серии драмы «Приключения Элен», получившей в мировом прокате название «Тайны Нью-Йорка». Дочь американского миллионера Элен Додж в исполнении звезды немого кино Пирл Уайт переживала разные криминальные приключения и сражалась с бандитами в попытках вернуть отцовское наследство. Фильм был настолько популярен в Европе, что во Франции даже совершались преступления «в духе Элен».
Зато с падением российской монархии кинематограф надолго превратился в орудие клеветы на Государя. Уже в 1917 году, ещё до большевистского переворота, в США был снят фильм «Падение Романовых», предсказуемо эксплуатировавший распутинский миф и очернявший Государя и Государыню.
Производители грязных киносенсаций как сели на Распутина, так и едут до сих пор. Хотя один раз дело дошло до скандала. В 1932 году на экраны вышла очередная грязная поделка «Распутин и императрица» – звуковой фильм Ричарда Болеславского. Возмущённый тем, как изобразили его и его жену, убийца Распутина Феликс Юсупов подал в суд на кинокомпанию «Метро Голден Майер» и… выиграл дело. После этого опасающиеся исков за клевету компании стали предуведомлять фильмы ремаркой, что «все события вымышлены, а совпадения с реальными лицами являются случайными».
Интересно, что советский кинематограф был в этом смысле куда более сдержанным. Хотя в СССР работала настоящая фабрика лжи, в том числе и по распутинской теме – филолог Щёголев и писатель Алексей Толстой подделывали дневники фрейлины Вырубовой, Толстой сочинил грязную пьесу «Заговор императрицы», – но советского кино эта волна поначалу не коснулась.
Фильм «Падение династии Романовых», созданный в 1927 году Эсфирью Шуб, представляет собой документальную панораму старой России и Первой мировой войны, лишь на последних метрах разбавленную картинами февральского переворота. Известная авангардистка, в прошлом помощница Всеволода Мейерхольда, Эсфирь Шуб считалась лучшим монтажёром в советском кино и сторонницей направления, считавшего, что грамотная склейка кадров способна внушить зрителю любую идею.
Шуб построила свой фильм на контрасте между жизнью верхов и низов дореволюционной России. Калужский губернатор пьет чай, а вот тяжело трудятся крестьяне, вот царь обходит строй гвардейцев, а вот рабочие варят сталь или грузят баржу. На этом социальном контрасте она пыталась передать идею неизбежности социальной революции. Но когда мы смотрим фильм сейчас, эта смысловая доминанта совершенно утрачивается: мы видим прекрасную, развивающуюся мирную страну, в которой нет ГУЛАГа, где Соловки монастырь, а не лагерь смерти, где не расстреливают и не ссылают за социальное происхождение «кулаков», где истово молятся Богу и чтят царя.
Если не обращать внимания на текстовый нарратив, то монтаж Шуб рассказывает нам сегодня совсем не ту историю, которую она хотела рассказать. Режиссёр и монтажёр не всесильны, восприятие фильма зависит, конечно, не столько от монтажа, сколько от того, что у самого зрителя в голове.
Фильм «Падение династии Романовых» ценен тем, что сохранил уникальный образ старой России, живые лица конкретных её деятелей: издатель-монархист Суворин и крайне правый депутат Пуришкевич, кадеты Милюков и Родичев, генералы Брусилов и Юденич, адмирал Колчак и, разумеется, сам Государь. Лента Эсфири Шуб склеила для нас крупицы разбитой и рассыпанной жизни.
К сожалению, не сохранилось второе её произведение на ту же тему – «Россия Николая II и Лев Толстой». Режиссёр перемикшировала хронику жизни отлучённого от Церкви за ересь писателя и хронику придворного быта царской семьи – скажем, сцены, где Государь в военной форме играет в теннис. Но что-то пошло не так – Толстой получился недостаточно выразительным, к тому же почти монархистом. Государь – слишком выразительным, пробуждающим скорее монархические чувства. В итоге этот фильм Шуб бесследно исчез из архивов.
Напоминание о царе в «важнейшем из искусств» казалось слишком опасным, и на долгие десятилетия Государь вовсе исчез из советского кино. Николай II лишь мимоходом появлялся в революционных лентах, таких как «Две жизни» Леонида Лукова по сценарию Алексея Каплера (1961 год).
Ситуацию резко изменил феноменальный успех в 1971 году фильма «Николай и Александра». Эта лента, собравшая несколько «Оскаров» и едва не получившая титул «фильм года», до сих пор остаётся, несмотря на все многочисленные недостатки, лучшей игровой лентой о Государе и его семье в мировом кино.
Это роскошный, красочный фильм с яркими красками, костюмами и интерьерами, с прекрасной музыкой. Чем-то он напоминает «Доктора Живаго». С одной стороны, полнейшая клюква, абсурдные исторические несоответствия, психологические нелепости и незнание России, но с другой – какая-то сумасшедшая романтическая к ней любовь, благородные герои, отсутствие главного русофобского мотива – когда коммунистический террор представляется как неизбежное следствие исторического пути России.
Загадка «Николая и Александры» связана с жизненной драмой двух американцев – Роберта и Сюзанны Масси, чей сын Боб родился в 1956 году со страшной болезнью гемофилией. Перепробовав множество средств спасти сына, отчаявшиеся супруги Масси узнали, что та же болезнь была у русского наследника царевича Алексея, и что её умел излечивать старец Григорий Распутин. И тогда Роберт и Сюзанна отправились в Россию, чтобы разыскать «секрет Распутина» – его они, конечно, не нашли, зато во всех деталях изучили биографию императорской семьи. Написанная ими совместно книга вышла под именем одного Роберта и стала бестселлером, особую эмоциональную убедительность ей придавали главы, посвящённые болезни царевича.
Роберт Масси опубликовал потом еще несколько русских биографий, по одной из которых, Петра Be-ликого, снят неплохой сериал. А Сюзанна Масси выпустила великолепную работу «Земля Жар-птицы, краса былой России» – книгу проникнутую столь яркой любовью к нашей стране, её истории и её народу что и нам не грех такой поучиться.
Успех «Николая и Александры» и подтолкнул Голливуд к работе над фильмом, в котором, спору нет, полно клюквы: перепутаны хронология и возраста героев, Столыпин гуляет с царём по пляжу и обсуждает трёхсотлетие дома Романовых, двери в Зимнем дворце сторожат арапы. Но весь этот абсурд искупается невероятно тёплым изображением главных героев – Николай II изображён добрым Государем, искренне желающим блага народу, любящим мужем и отцом, образ Александры Фёдоровны хоть и отдаёт некоторую дань мифу о нервной и замкнутой императрице, но проникнут такой безграничной любовью к сыну, что вызывает слёзы умиления.
Чудесно представлены царские дети, особенно цесаревич Алексей. Романовым противопоставлены Ленин, Троцкий, Сталин, мрачные террористы, желающие только зла и мести и совершающие в итоге ужасающее преступление – убийство царской семьи.
Большевизму была нанесена публичная пощёчина на мировом экране, и советское Госкино распорядилось немедленно возобновить работу над фильмом «Агония», съёмки которого ранее были остановлены из-за того, что Распутин в нём, по мнению советских киноначальников, получился богатырём. В итоге режиссёром Элемом Климовым была сооружена мрачная, грязная, выполненная в стилистике абсурда и психоза поделка.
Наполовину она состояла из фантасмагорических сцен с Распутиным, которому для противовеса ещё добавили демонического тибетского доктора Бадмаева. Остальное – псевдодокументальные ходульные красные агитки и натянутые сцены с царской семьей. Об уровне бесноватости этих агиток говорит такой факт: в числе «шарлатанов»-предшественников
Распутина показан святой праведный Иоанн Кронштадтский.
На общем грязном фоне этого фильма (пожалуй, главного претендента на роль отца «Матильды») выделялось только одно – потрясающий образ самого Николая II, созданный Анатолием Ромашиным. Ранее Ромашин сыграл Романова в эпизодической роли в историко-революционном фильме «Свеаборг», где передал безупречную царскую вежливость. В «Агонии» царь глядел такими полными грусти и святой скорби глазами, был настолько нравственно выше и революционеров, и думских политиканов, и придворных, что эта роль перечёркивала всё остальное содержание фильма и всю напиханную в него пропаганду. Поэтому «Агонию» до советского проката не допустили, отбили затраты, продав его за границу, а внутри страны показали только в перестройку.
Постсоветский кинематограф ещё несколько раз зацепился за царскую тему. Неплохой фильм Карена Шахназарова «Цареубийца» – символическая фантасмагория, в которой пациент психиатрической клиники, стоящей среди разрушенных храмов, воображает себя цареубийцей Юровским, а доктор, которого сыграл Олег Янковский, постепенно самоото-ждествляется с Николаем II и гибнет. В образе царя знаменитый советский актёр отлично выглядит, но вот говорит мало и неубедительно. Смысл превращения понятен: монархия должна исцелить тяжелобольную обезумевшую Россию, но вместо этого безумная страна убивает царя. Мораль вполне в духе 1990 года.
«Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, снятый как своеобразный отклик на канонизацию царской семьи в 2000 году, – фильм верный по идеологии и смыслу, неплохо показывающий события последних месяцев жизни царственных мучеников. Но в нём, к сожалению, уже очень чувствуется упадок нашего кинематографа: ходульность диалогов, шероховатая игра актеров, не всегда качественная работа с визуальными образами. Благонамеренный фильм даёт гораздо меньше, чем мы были вправе от него ожидать.
Голливуд в этот период продолжил линию, заложенную в «Николае и Александре», и снял чудесный диснеевский мульт «Анастасия». История самозванки Анны Андерсон пользовалась у кинематографистов невероятной популярностью. И в конечном счёте трансформировалась в диснеевскую сказку, где Романовы – добрая счастливая семья, Распутин – злой колдун, а Анастасия – побеждающая его настоящая принцесса.
Ни одного фильма о подлинном Государе – мистическом средоточии России, вожде, правителе и мученике – так и не снято. Высшей планкой для кинематографистов остаётся по-прежнему снять хороший фильм о Романовых как о семье. И именно сюда направил свой удар Учитель. Вместо поистрепавшего мифа о Распутине решено теперь раздувать миф о Матильде, пытаясь обмазать грязью образ Государя как семьянина, ту идеальную историю любви, которая рассказана в «Николае и Александре» и которая является исторической правдой.
«Газета «Правда», описывая меня, сообщила, что у меня подбородок коротковат. Увы, я это уже давно знала, и боюсь, что даже ради тебя мне не удастся его вытянуть. Ну а в другом они мне очень льстили. Но больше всего меня позабавило их сообщение о том, что у них нет моего фото в полный рост, а есть только такое, где меня можно увидеть только до икр. Ты когда-нибудь слышал, чтобы в газетах печатали такие выражения? Я хохотала как сумасшедшая.
Любимый мой мальчик, сегодня утром в церкви я горячо молилась за тебя. А ты молился за меня? Я снова буду молиться через час, буду просить Его, чтобы Он сделал меня существом, более достойным твоей любви. А сейчас я должна позаниматься русским языком, или ты будешь бранить свою лентяйку. До свидания мой любимый, мой драгоценный Ники. Мое Солнышко, я посылаю тебе издалека много нежных поцелуев и благословений.
Глубоко любящая тебя старушка Алике.
Да благословит тебя Бог, мой верный до смерти. Пожалуйста, всегда мне рассказывай про своих солдат. Мне это так нравится, ты знаешь, как я люблю солдат. Ах, как мне знакомо их пение, когда они маршируют домой, и как часто я останавливалась послушать их. А сейчас я буду учиться любить ваших солдат…
27 мая 1894 года»[32].
Я сейчас читаю письма принцессы Алике своему Ники, написанные в 1894 году, то есть именно тогда, когда происходит действие «Матильды», и психологическая художественная ложь позорного фильма становится ещё очевидней. Советский кинокустарь Учитель приписывает почти детям – 22 года, 26 лет – страсти пожилых извращенцев.
Когда со всеми этими порноактёрами и актрисками приписывают страсти переутомлённых развратом стариков весёлым, смешным детям – вот это, конечно, и пошлость, и полный художественный провал. Даже не заинтересоваться личностью героев, не почитать их переписку, не понять, насколько они молоды и невинны, и снимать жизнь своего провонявшего развратом богемного круга как их жизнь….
Самое гнусное в «Матильде» – это атака на идеал семьи. У Николая и Александры была идеальная семья, восхищавшая весь мир. Эта любовь – пример того, как нужно любить от первой встречи до последних вражьих выстрелов, как растить и защищать своих детей. Эта история, над которой мир целый действительно плакал – такой урок, который я бы хотел передать и своим детям.
С безошибочным чутьём золотаря советский режиссёр Учитель почувствовал это и набросил именно на эту семью коровью лепеху клеветы. И понятно, почему у него столько друзей и покровителей – современные российские элиты ищут в возводимой на царя грязи оправдание для своей.
Отсюда та самая подлая манипуляция, которая проделана с фактами. Лёгкое молодое увлечение Кшесинской вопреки всем известным фактам переброшено не только за помолвку, но и за свадьбу с Алике. И этим завещанная потомкам история любви безнадежно обгажена: клевещите, клевещите, что-нибудь да останется. В данном случае остаться должно простое: «Какая такая любовь Николая и Александры? Он же с балериной жужу, а жена у него была ведьма и истеричка». Это не только антирусская и антимонархическая пропаганда, это не только плевок в историю, но и комок грязи в любовь.
Суть же конфликта вокруг «Матильды» довольно проста и укладывается в два тезиса – киноведческий и политический.
Защита «Матильды» – это защита мнимой свободы снимать о ком угодно (включая вас лично) какую угодно грязь, унижающую и лично персонажа, и нацию, и страну в целом. Сергий Радонежский медитирует перед статуей Будды. Чайковский, ржа как лошадь, грязно пристаёт к подросткам. Маршал Жуков режет польских пленных на части бензопилой, подаренной Берией. По Гагарину в космосе ползает вошь… Родина и нация, семья и любовь, свет и Бог – для золотарского кинематографа их нету. И перед всем этим гарбажем на цырлах расхаживают министр культуры и ещё масса народу, и ничего сделать не могут и не хотят.
Выбор «Матильды» – это не выбор между нормальностью и фейковым «христианским государством». Это выбор между двумя реально существующими государствами – между РФ и Российской империей. Одни хотят жить в «молодой стране, которой 25 лет», тусить с тёлками в Сочах, ходить на лабутенах, сидеть на трубе, вместо «подзатянувшегося авторитаризма» ждать себе президента, выбранного пятью банкирами, продолжать постреволюционный русский апокалипсис. Другие хотят жить в тысячелетней православной империи, считать, что Крым и не только Крым не то что вернулись, а никуда и не уходили, видеть в истории живую нравственную связь и считать почитание царственных мучеников тем способом, который поддерживает и улучшает наше бытие-в-Российской-империи, возвращает нас в поле вне-революционной нормальности.
До какого-то момента РФ и РИ относительно мирно сосуществовали в одном социуме, поделив его на сектора, к тому же велик был сектор доживавшего своё СССР. Сейчас советский сектор сильно сдулся, и две страны в одной вышли на прямой конфликт. «Матильда» – это атака на Империю самыми грязными методами, и тут же многие, кокетничавшие с империей, – откровенно сказать – испугались и поплыли. Иной человек в былые года снимал «Россию, которую мы потеряли», а теперь, ишь, слово выучил: «мракобесие».
Сегодня реально, как лезвие, обозначился выбор. Это именно выбор своего гражданства – не временного, но вечного. Эрефяне не имеют части в исторической России, она для них лишь гигантский порноролик. Русские не могут иметь в РФ места, их тут не стояло, за ними нет даже права на единство и самоназвание – всё это отошло прошлому; «русские» это те, кто жил до 1917 года, единая Россия – это «империя, которая неизбежно должна была рухнуть». И от того, какой мы путь сегодня выберем, РФ или РИ, зависит будущее: «интегрируемся» ли мы в Запад по самое Майами, или восстановимся от Алленштейна до Аляски.