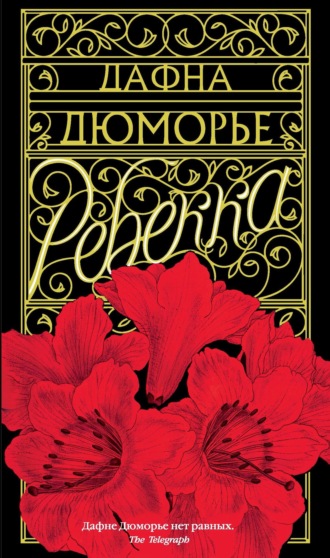
Дафна дю Морье
Ребекка
Помню, когда я сказала это, он рассмеялся и протянул ко мне руку через стол.
– Благослови тебя Боже за твои слова, – сказал он. – Когда-нибудь, когда ты достигнешь тридцати шести лет – величественного возраста, который, как ты сказала, является пределом твоих мечтаний, – я напомню тебе об этой минуте. И ты мне не поверишь. Как жаль, что ты не можешь не взрослеть.
Мне уже было стыдно, и я сердилась на него за его смех. Значит, женщины не признаются мужчинам в таких вещах. Мне надо было еще многому учиться.
– Выходит, решено, да? – сказал он, продолжая расправляться с тостом и джемом. – Вместо того чтобы быть компаньонкой миссис Ван-Хоппер, будешь компаньонкой мне, и обязанности твои останутся почти что те же. Я тоже люблю новые книги из библиотеки и цветы в гостиной… и безик после обеда. Разница лишь в том, что я употребляю не английскую соль, а крушину, и тебе придется следить, чтобы у меня всегда был хороший запас моей любимой зубной пасты.
Я барабанила пальцами по столу, я ничего не понимала, ни его, ни себя. Он все еще смеется надо мной? Это шутка? Он поднял глаза и увидел тревогу у меня на лице.
– Я безобразно себя веду, да? – сказал он. – Разве так делают предложения?! Мы должны были бы сидеть в оранжерее, ты – в белом платье и с розой в руке, а издалека доносились бы звуки вальса. На скрипке. И я должен был бы страстно объясняться тебе в любви позади пальмы. Ты так все это себе представляешь? Тогда бы ты чувствовала, что получила все сполна. Бедная девочка. Просто стыд и срам. Ну, не важно, я увезу тебя на медовый месяц в Венецию, и мы будем держаться за руки в гондоле. Но мы не останемся там надолго, потому что я хочу показать тебе Мэндерли.
Он хочет показать мне Мэндерли… И внезапно я осознала, что это действительно произойдет, я стану его женой, мы будем гулять вместе в саду, пройдем по тропинке к морю, к усеянному галькой берегу. Я уже видела, как стою после завтрака на ступенях, глядя, какая погода, кидая крошки птицам, а позднее, в шляпе с большими полями, с длинными ножницами в руках выхожу в сад и срезаю цветы для дома. Теперь я знала, почему купила в детстве ту открытку. Это было предчувствие, неведомый мне самой шаг в будущее.
Он хочет показать мне Мэндерли… Воображение мое разыгралось, передо мной одна за другой замелькали картины, возникли какие-то фигуры… и все это время он ел мандарин, не спуская с меня глаз и подкладывая мне время от времени дольку. Вот мы в толпе людей, и он произносит: «Вы, кажется, еще не знакомы с моей женой». Миссис де Уинтер. Я буду миссис де Уинтер. Я подумала, как это будет звучать, как будет выглядеть подпись на чеках торговцам и на письмах с приглашением к обеду. Я слышала, как говорю по телефону: «Почему бы вам не приехать в Мэндерли в конце следующей недели?» Люди, всегда масса людей. «О, она просто обворожительна. Вы должны с ней познакомиться…» Это обо мне – шепоток, пробегающий в толпе, и я отворачиваюсь, делая вид, что ничего не слышала.
Прогулка в домик привратника, в руке корзинка с виноградом и персиками для его прихворнувшей престарелой матушки. Ее руки, протянутые ко мне: «Благослови вас Господь, мадам, вы так добры», – и я в ответ: «Присылайте к нам за всем, что вам может понадобиться». Миссис де Уинтер. Я видела полированный стол в столовой и высокие свечи. Максим во главе стола. Прием на двадцать четыре персоны. У меня в волосах роза. Все глядят на меня, подняв бокалы. «За здоровье новобрачной». А потом, после их отъезда, Максим: «Я еще никогда не видел тебя такой прелестной». Большие прохладные комнаты полны цветов. Моя спальня зимой, с горящим камином. Стук в дверь. Входит незнакомая женщина, она улыбается, это сестра Максима. «Просто удивительно, каким счастливым вы его сделали, все в таком восторге, вы имеете огромный успех!» – говорит она. Миссис де Уинтер. Я буду миссис де Уинтер…
– Эти дольки кислые, я бы не стал их есть, – сказал он, я уставилась на него – до меня с трудом дошел смысл его слов, – затем посмотрела на четвертушку мандарина, лежащую передо мной на тарелке. Она была жесткой и светлой. Он прав. Мандарин был очень кислый. Во рту у меня щипало и горчило, а я только сейчас это заметила.
– Кто сообщит миссис Ван-Хоппер, я или ты? – спросил он.
Он складывал салфетку, отодвигал тарелки, и я поразилась, как он может говорить так небрежно, словно все это не имеет особого значения, просто небольшое изменение планов. Когда для меня это было бомбой, разорвавшейся на тысячи осколков.
– Скажите лучше вы, – попросила я. – Она будет так сердиться.
Мы встали из-за стола, я – красная, возбужденная, дрожа от предвкушения. Может быть, он расскажет официанту, возьмет, улыбаясь, мою руку и проговорит: «Вы должны нас поздравить. Мы с мадемуазель собираемся вступить в брак». Все остальные официанты тоже это услышат, станут кланяться нам и улыбаться. Мы пройдем в гостиную, а за нами покатится волной взволнованный говорок, трепет ожидания… Но он ничего не сказал. Он ушел с террасы без единого слова, и я пошла следом за ним к лифту. Мы миновали конторку портье, и на нас никто не взглянул. Дежурный возился с какими-то бумагами и разговаривал через плечо с помощником. Он не знает, подумала я, что я буду миссис де Уинтер. Я буду жить в Мэндерли. Мэндерли будет мой. Мы поднялись в лифте на второй этаж и пошли по коридору. Он взял меня за руку и стал раскачивать ее взад-вперед.
– Сорок два звучит для тебя очень страшно? – спросил он.
– Вовсе нет, – сказала я быстро, пожалуй, даже слишком быстро и горячо. – Я не люблю молодых людей.
– Ты не была знакома ни с одним из них.
Мы подошли к дверям номера.
– Пожалуй, я лучше справлюсь с этим один, – сказал он. – Скажи мне кое-что: ты не возражаешь, если мы поженимся через несколько дней? Тебе ведь не нужно приданое и все эти глупости? Потому что все можно устроить очень быстро. Получить разрешение, расписаться в мэрии и отправиться на машине в Венецию или куда тебе будет угодно.
– Не в церкви? – спросила я. – Не в белом платье, без подружек, колокольного звона и хора? А что скажут ваши родственники и друзья?
– Ты забыла, – сказал он. – Я уже один раз венчался в церкви.
Мы продолжали стоять перед дверью в номер, и я заметила, что газета все еще торчит в почтовом ящике. Нам было некогда за завтраком читать ее.
– Ну так как? – спросил он.
– Конечно, – ответила я. – Я просто думала, мы поженимся дома. Естественно, я и не жду венчания и гостей и всего такого.
И я улыбнулась ему. Сделала бодрое лицо.
– Вот весело будет, да? – сказала я.
Но он уже отвернулся от меня, открыл дверь, и мы очутились в номере, в небольшой прихожей.
– Это вы? – позвала миссис Ван-Хоппер из гостиной. – Куда, черт возьми, вы запропастились? Я три раза звонила в контору, и они сказали, что не видели вас.
Меня внезапно охватило желание рассмеяться, заплакать, сделать и то и другое одновременно, и вместе с тем засосало под ложечкой. Мне захотелось на один безумный миг, чтобы ничего этого не происходило, чтобы я оказалась где-нибудь одна, гуляла бы и насвистывала…
– Боюсь, во всем виноват один я, – сказал Максим, входя в гостиную и закрывая за собой дверь, и я услышала ее удивленный возглас.
А я пошла к себе в спальню и села у раскрытого окна. Я чувствовала себя так, словно жду в приемной врача. Мне бы сейчас листать страницы журнала, рассматривать фотографии, которые мне неинтересны, и читать статьи, которые я тут же забуду, пока не выйдет сестра, бодрая и расторопная, все человеческое смыто за годы службы дезинфицирующими средствами. «Все в порядке, операция прошла вполне успешно. Нет никаких оснований волноваться. Я бы на вашем месте пошла домой и поспала».
Стены в номере были толстые, я не слышала их голосов. Интересно, что он ей говорит, какими именно словами. Может быть, он сказал: «Знаете, я влюбился в нее в самый первый день». И миссис Ван-Хоппер в ответ: «Ах, мистер де Уинтер, в жизни еще не слыхала такой романтичной истории». «Романтично» – вот оно, то слово, которое я старалась вспомнить, когда мы поднимались в лифте. Да, конечно. «Романтично». Это самое люди и станут говорить. Все произошло так внезапно, так романтично. Они внезапно решили пожениться… и вот… Настоящее приключение.
Я сидела на подоконнике, обняв колени, и улыбалась про себя, думая, как все замечательно, какой я буду счастливой. Я выйду замуж за человека, которого люблю. Я стану миссис де Уинтер. Просто глупо, что у меня не перестает сосать под ложечкой, когда меня ждет такое счастье. Нервы, конечно. Ждать вот так, словно в приемной врача. Пожалуй, было бы куда лучше, более естественно, если бы мы зашли в гостиную вместе, рука об руку, весело улыбаясь друг другу, и он бы сказал: «Мы собираемся пожениться, мы очень любим друг друга».
Любим. Но он даже не упомянул о любви. Возможно, ему было некогда. Мы разговаривали за завтраком в такой спешке. Джем и кофе, и этот мандарин. Некогда. Мандарин был такой горький. Нет… он не упоминал, не говорил о любви. Только – что мы поженимся. Коротко и определенно, очень оригинально. Оригинальное предложение куда интереснее. Более искреннее. Не так, как у других людей. Не так, как у мальчишек, которые болтают чепуху, половине которой они, возможно, сами не верят. Не так бессвязно, не так страстно, как молодые, без клятв в том, что невозможно. Не так, как он объяснялся в первый раз, объяснялся Ребекке… Я не должна об этом думать. Отогнать это прочь. Запретная мысль, мне подсказали ее демоны. Отойди от меня, сатана. Я не должна об этом думать, не должна, не должна, не должна… Он меня любит, он хочет показать мне Мэндерли. Кончат они когда-нибудь разговаривать? Позовут меня наконец в комнату?
Книга стихов лежала возле кровати. Он забыл, что дал мне ее почитать. Значит, она не так уж ему дорога. «Ну же, – шепнул демон, – открой ее на титульном листе, ведь тебе именно этого хочется. Открой». Глупости, сказала я, я просто хочу положить книгу вместе с остальными вещами. Я зевнула, словно нехотя подошла к ночному столику. Взяла книгу… Я запуталась ногой в шнуре от настольной лампы, споткнулась, и книга полетела на пол. Открылась на титульном листе. «Максу от Ребекки». Она умерла, нельзя плохо думать о мертвых. Они мирно спят в своих могилах, ветер колышет над ними траву. Но какой живой была надпись, сколько в ней силы! Эти странные косые буквы. Чернильная клякса. Сделанная вчера. Казалось, книга надписана только вчера. Я вынула из несессера ножнички для ногтей и, поглядывая через плечо, как преступница, отрезала титульный лист.
Я отрезала его целиком. Не осталось никаких краев, и теперь, без этой страницы, книга выглядела белой и чистой. Новая книга, которой не касалась ничья рука. Я разорвала страницу на мелкие кусочки и выбросила их в мусорную корзинку. Затем снова села на подоконник. Но я продолжала думать об этих клочках бумаги и через минуту не выдержала, встала и заглянула в корзинку опять. Даже сейчас чернила четко выделялись на обрывках, буквы были целы. Я взяла спички и подожгла бумагу. Как красиво было пламя, обрывки потемнели, закрутились по краям – косой почерк больше было не разобрать – и развеялись серым пеплом. Последним исчезло заглавное «Р», оно корчилось в огне, на какой-то миг выгнулось наружу, сделавшись еще больше, чем прежде, затем тоже сморщилось, пламя уничтожило его. Даже пепла не осталось, просто перистая пыль… Я пошла к тазу, вымыла руки. Мне было лучше, гораздо лучше. У меня было такое же ощущение чистоты и свежести, какое бывает, когда в самом начале нового года вешаешь на стену календарь. Первое января. Я чувствовала ту же бодрость, ту же радостную уверенность в себе. Дверь открылась, Максим вошел в комнату.
– Все в порядке, – сказал он. – Сперва она онемела от изумления, но теперь начинает приходить в себя. Я спущусь в контору, позабочусь, чтобы она обязательно попала на ранний поезд. На какой-то миг она заколебалась, я думаю, она надеялась выступить свидетельницей при бракосочетании, но я был тверд. Пойди поговори с ней.
Он ничего не сказал о том, как он рад, как он счастлив. Он не взял меня за руку и не ввел в гостиную. Он улыбнулся, кивнул и пошел по коридору один. Я направилась к миссис Ван-Хоппер; я чувствовала себя неловко, неуверенно, как горничная, которая предупредила об уходе с места через подругу.
Миссис Ван-Хоппер стояла у окна и курила сигарету, нелепая кубышка, которую я никогда больше не увижу, шуба туго натянута на огромной груди. На самой макушке несуразная шляпа с пером, надетая набок.
– Ну, – сказала она сухо, совсем не тем тоном, каким, наверно, говорила с ним. – Надо отдать должное вашему умению работать на двоих. В тихом омуте черти водятся, в вашем случае это, безусловно, так. Как же вам удалось?
Я не знала, что ей отвечать. Мне не нравилась ее улыбка.
– Вам повезло, что я заболела, – сказала она. – Теперь я понимаю, как вы проводили день и почему вы все забывали. Уроки тенниса, как бы не так! Могли бы и не скрывать от меня.
– Простите, – сказала я.
Она с любопытством глядела на меня, обшаривала взглядом всю фигуру.
– Он говорил, что хочет жениться на вас как можно скорее. Вам везет, что у вас нет родных – некому задавать вопросы. Ну, меня вся эта история не касается, я умываю руки. Не представляю, правда, что подумают его друзья, но это уж его забота. Вы понимаете, что он вам в отцы годится?
– Ему только сорок два, а я выгляжу взрослее своего возраста.
Она засмеялась и скинула пепел на пол.
– Бесспорно, – сказала миссис Ван-Хоппер.
Она продолжала смотреть на меня так, как никогда не смотрела прежде. Оценивала взглядом с ног до головы, перебирала все стати, как судья на выставке племенного скота. В ее глазах было что-то неприятное, пытливое, словно она раздевала меня донага.
– Скажите мне, – спросила она фамильярно, как подруга подругу, – вы не делали ничего такого, чего не следует делать?
Она напомнила мне Блэз, портниху, которая предложила мне десять процентов комиссионных.
– Я не понимаю, о чем вы, – сказала я.
Она засмеялась, пожала плечами.
– Ну что ж… не важно. Я всегда говорила, что английские девушки – темные лошадки при всех своих спортивных замашках. Значит, мне теперь ехать в Париж одной, а вы останетесь здесь и будете ждать, пока ваш кавалер не получит разрешения на брак? Я заметила, что он не пригласил меня на бракосочетание.
– Я не думаю, чтобы он вообще кого-нибудь звал, да ведь вас все равно к тому времени не будет, – сказала я.
– Хм… хм… – хмыкнула она и, взяв сумочку, принялась пудрить нос. – Что ж, вы, верно, твердо знаете, чего хотите, – продолжала она. – В конце концов, все это произошло уж очень быстро. В какие-то две-три недели. Вряд ли у него легкий характер, вам придется приспосабливаться к нему. До сих пор вы вели жизнь без тревог и забот, ведь вы не можете сказать, что сбивались из-за меня с ног. Как у хозяйки Мэндерли хлопот у вас будет по горло. Откровенно говоря, душечка, просто не представляю, как вы со всем этим справитесь. – Ее слова звучали эхом моих собственных мыслей. – У вас нет опыта, вы не знакомы с его средой. Вам было трудно связать два слова, когда ко мне приходили играть в бридж, как вы будете разговаривать с его друзьями? При ее жизни приемы в Мэндерли были знамениты. Он, конечно, рассказывал вам о них?
Я начала было что-то бормотать, но, к счастью, миссис Ван-Хоппер и не ждала ответа.
– Естественно, хочется, чтобы вы были счастливы, и он очень привлекательный человек, но… но, как мне ни жаль, я думаю, что вы совершаете большую ошибку, о которой будете впоследствии горько сожалеть.
Она поставила коробку с пудрой и поглядела на меня через плечо. Возможно, она наконец говорила искренне, но мне не нужно было прямодушие такого рода. Я ничего не сказала. Наверно, у меня был хмурый вид, потому что она пожала плечами и, подойдя к зеркалу, принялась поправлять свою похожую на гриб шляпку. Я была рада, что она уезжает, рада, что больше не увижу ее. Мне было до смерти жаль тех месяцев, что я провела у нее в услужении, брала у нее деньги, следовала за ней по пятам, как тень, бесцветная и немая. Конечно, я неопытна, конечно, я глупа, застенчива и молода. Я знала все это, ей незачем было мне говорить. Верно, она держалась так со мной сознательно, по какой-то непонятной мне причине ее как женщину возмущал этот брак, наносил удар по ее шкале ценностей.
Ну и пусть, не стану огорчаться, забуду о ней и ее злых словах. Когда я сожгла эту страницу и развеяла пепел, во мне родилась уверенность в себе. Прошлое больше не существует для нас, мы начинаем заново, и он, и я. Прошлое улетучилось, как дым из мусорной корзинки. Я буду миссис де Уинтер. Я буду жить в Мэндерли.
Скоро миссис Ван-Хоппер уедет, исчезнет под перестук колес в спальном вагоне, а мы с ним будем вместе в ресторане отеля сидеть за нашим всегдашним столиком и строить планы на будущее. Начало огромного приключения. Возможно, когда она уедет, он наконец поговорит со мной, скажет, как он меня любит, как он счастлив. До сих пор на это не было времени, такие вещи нельзя просто так взять и сказать, нужен подходящий момент. Я подняла глаза и увидела ее отражение в зеркале. Она наблюдала за мной, на ее губах была снисходительная улыбка. Я подумала, что она решила все же быть великодушной, что она протянет мне руку и пожелает удачи, подбодрит меня и скажет, что все будет хорошо. Но она продолжала улыбаться, заправляя под шляпку выбившуюся прядь волос.
– Вы, конечно, понимаете, почему он на вас женится, не так ли? Вы не тешите себя мыслью, что он в вас влюблен? Дело тут простое: этот пустой дом так стал действовать ему на нервы, что он едва не свихнулся. Он чуть не прямо мне об этом сказал. Перед тем как вы вошли. Он просто не может больше жить там один…
Глава VII
Мы приехали в Мэндерли в начале мая, следом за первыми ласточками и пролеской. Здесь это лучшая пора, сказал Максим, лето еще не вошло в полный разгар, в долине зацветают кроваво-красные рододендроны и дурманяще пахнут азалии. Мы ехали на машине, покинув Лондон утром под проливным дождем, и прибыли в Мэндерли около пяти, как раз к чаю. Как сейчас вижу себя, одетую, по обыкновению, самым неподходящим образом, хотя я вот уже семь недель как была замужем, – коричневое трикотажное платье, на шее маленькая горжетка из куницы, а поверх всего – огромный бесформенный макинтош – уступка моде, – доходящий до самых лодыжек, от чего я казалась на несколько дюймов выше. В руках я сжимала перчатки с крагами и большую кожаную сумку.
– Дождь только здесь, в Лондоне, – сказал Максим, когда мы выезжали. – Подожди, пока приедем в Мэндерли. Там тебя встретит солнце.
Он был прав, тучи остались за Экзетером, они укатились назад, оставив огромный синий купол над головой и белую дорогу впереди.
Я была рада солнцу; я суеверно считала дождь дурной приметой, и свинцовое лондонское небо отбило у меня охоту разговаривать.
– Как ты, получше? – спросил Максим, и я улыбнулась ему и взяла за руку, думая, как все это для него легко – приехать в свой собственный дом, войти в холл, захватить письма, позвонить, чтобы подавали чай; я спрашивала себя, догадывается ли он, как я нервничаю, и показывает ли его «Ну как ты, получше?», что он все понимает.
– Ничего, мы уже скоро приедем. Тебе невредно будет выпить чаю, – сказал он и выпустил мою ладонь – мы подъехали к повороту, и ему надо было снизить скорость.
И я поняла, что он приписал мою молчаливость простой усталости, ему и в голову не пришло, что я столь же сильно страшусь приезда в Мэндерли, сколь стремлюсь к нему в теории. Теперь, когда этот момент настал, я жаждала его задержать. Я хотела бы остановиться в какой-нибудь придорожной гостинице, посидеть в столовой у общего камина. Я хотела быть безымянной путницей, молодой женой, влюбленной в мужа, а не женой Максима де Уинтера, впервые приезжающей в Мэндерли. Мы миновали не одну деревушку, где окна домиков глядели на нас благожелательно и тепло. С порога одного из них мне улыбнулась женщина с младенцем на руках; ее муж, гремя ведрами, шел через дорогу к колодцу.
Ах, если бы мы были такими же, как они, возможно их соседями, и Максим стоял бы вечерами, облокотившись о ворота, с трубкой в зубах, гордый тем, какую высокую штокрозу ему удалось вырастить собственными руками, а я возилась бы на кухне, чистой, как стеклышко, накрывая на стол к ужину. На шкафчике для посуды громко тикал бы будильник, стояли бы рядком начищенные до блеска оловянные тарелки. После ужина, положив ноги на каминную решетку, Максим читал бы газету, а я вытаскивала бы из ящика гору белья, которое надо починить. Несомненно, такая жизнь была бы куда более тихой и безмятежной и к тому же более легкой, не требующей выполнения незыблемых правил.
– Осталось всего две мили, – сказал Максим, – видишь ту широкую полосу деревьев на гребне холма, что спускается в долину, и море за ней? Там и есть Мэндерли, это наш лес.
Я выдавила из себя улыбку, но ничего не ответила, меня вдруг охватила паника, тревожная тошнота, с которой я не могла совладать. Исчезло радостное возбуждение, пропала счастливая гордость. Я чувствовала себя ребенком, которого впервые ведут в школу, маленькой неопытной служанкой, которая никогда раньше не уезжала из дома, а сейчас пришла наниматься к чужим людям. Все самообладание, которое я приобрела за короткие семь недель замужества, превратилось в лоскут, трепещущий на ветру; мне казалось, что я совсем не умею себя вести, не знаю даже простейших вещей, не отличу правой руки от левой, не буду знать, стоять мне или сидеть, какими ложками и вилками пользоваться за обедом.
– Я бы скинул макинтош, – сказал он, глядя на меня, – здесь и в помине не было дождя, и поправь эту свою смешную горжетку. Бедняжка, я привез тебя сюда в такой спешке, нам, верно, следовало накупить тебе в Лондоне кучу нарядов.
– Не важно, если тебе это безразлично, – сказала я.
– Большинство женщин ни о чем, кроме нарядов, не думают, – отсутствующе произнес он, и, завернув за угол, мы оказались у перекрестка, где начиналась высокая стена. – Вот мы и дома, – сказал Максим с непривычным волнением в голосе, и я вцепилась обеими руками в кожаное сиденье машины.
Дорога забрала влево, и перед нами оказались широко распахнутые железные ворота возле сторожки, а за ними – длинная подъездная аллея. Когда мы въезжали в высокие ворота, я заметила лица за темными окошечками сторожки, а из задней двери выбежал ребенок и с любопытством уставился на меня. Я отпрянула на сиденье, сердце судорожно билось у меня в груди; я знала, почему в окошках были эти лица, почему с таким любопытством смотрел мальчик.
Они хотели знать, какая я. Я представляла, как они громко судачат сейчас, как смеются, собравшись на кухоньке. «Только и увидел что макушку шляпы, – говорит кто-нибудь. – Она спрятала лицо. Ну ничего, до завтра мы все узнаем, придет весточка из барского дома». Возможно, Максим наконец догадался хоть немного о моих муках, потому что, взяв мою руку, поцеловал ее и сказал, хотя и с улыбкой:
– Не обращай внимания на их любопытство, всем, естественно, хочется на тебя взглянуть. Последние недели они, вероятно, ни о чем другом не говорили. Будь сама собой, и они станут тебя обожать. И не беспокойся о том, как вести дом, миссис Дэнверс делает абсолютно все. Предоставь это ей. Вероятно, сперва она будет держаться с тобой холодно, это весьма своеобразная личность, но ты не тревожься, такая у нее манера. Видишь эти кусты? Это гортензии. Когда они цветут, здесь стоит сплошная голубая стена.
Я не ответила, я думала о той девочке, моем далеком «я», которая давным-давно купила цветную открытку в деревенской лавке и вышла оттуда на яркий солнечный свет, сжимая ее в руке, в восторге от своей покупки. «Она так хорошо подойдет для альбома, – думала девочка, – Мэндерли, какое красивое имя». А теперь я буду здесь жить. Мэндерли – мой дом. Я стану писать отсюда друзьям и знакомым: «Мы проведем в Мэндерли все лето. Вы обязательно должны приехать у нас погостить», я буду ходить по этой аллее, сейчас такой чужой и незнакомой, зная весь путь наизусть, каждый его изгиб и поворот, замечая с одобрением все уголки, где потрудились садовники – здесь подстригли кустарник, там подрезали ветку, – буду запросто заходить в сторожку привратника у железных ворот. «Ну, как ваша нога сегодня?» – спрошу я его матушку, и старушка, давно утеряв былое любопытство, пригласит меня в кухню. Я завидовала Максиму, он держался непринужденно, беззаботно, легкая улыбка на губах говорила, что он счастлив вернуться домой.
Каким невероятно, немыслимо далеким казалось мне то время, когда я тоже буду улыбаться и чувствовать себя свободно; как мне хотелось, чтобы оно скорей наступило, пусть даже, прожив здесь много-много лет, я состарюсь, поседею и буду еле двигать ногами, – все лучше, чем быть робкой, глупой девчонкой.
Ворота с громким стуком закрылись позади нас, пыльное шоссе скрылось из вида, и я вдруг увидела, что подъездная аллея ни капельки не похожа на ту широкую гравийную дорогу, окаймленную ухоженным газоном, которую я создала в своем воображении, которой пристало быть в Мэндерли.
Эта аллея извивалась и петляла, как змея, временами она была не шире тропинки, с обеих сторон возвышалась колоннада деревьев, ветви которых качались и переплетались друг с другом, образуя над нами свод, похожий на церковную аркаду. Даже прямое полуденное солнце не могло проникнуть сквозь густолиственный зеленый полог, лишь кое-где мерцающие звездочки теплого света испещряли золотом землю. Все было тихо и неподвижно. На шоссе в лицо нам дул веселый западный ветер, под которым дружно кланялась трава, но здесь ветра не было. Даже мотор машины стал звучать по-иному, тише, спокойнее, чем раньше. По мере того как дорога спускалась в долину, нас все теснее обступали деревья, огромные буки с прелестными гладкими белыми стволами, простирающие друг к другу мириады ветвей, и другие деревья, названий которых я не знала, подходящие к дороге так близко, что я могла бы дотронуться до них рукой. Все дальше и дальше – вот мелькнул мостик, перекинутый через ручей, – и по-прежнему эта подъездная аллея, не похожая сама на себя, извивалась и петляла, как волшебная лента, меж темных безмолвных деревьев, все глубже проникая в самое сердце леса, и по-прежнему не видно было расчищенного участка, свободного пространства, где мог бы находиться дом.
Дорога начала действовать мне на нервы. Должно быть, за этим поворотом, думала я, или за тем, подальше, но сколько я ни наклонялась на сиденье вперед, меня ждало разочарование: ни дома, ни полей, ни широко раскинувшегося фруктового сада – ничего, кроме тишины и глухого леса. Ворота у сторожки превратились в воспоминание, а шоссе – в нечто существовавшее в иные времена в ином мире.
Внезапно впереди показался просвет, затем клочок неба, и через минуту темные деревья отодвинулись, поредели, безымянные кусты исчезли, и по обе стороны поднялась высокая багрово-красная стена. Нас окружали рододендроны. Их появление было так внезапно, что поразило, даже испугало меня. Кто мог ожидать их в лесу? Я не была готова к встрече с ними. Они вселили в меня трепет своими пурпурными лицами, в несметном количестве громоздившимися одно над другим; не было видно ни веточки, ни листика, ничего, кроме кровавого багрянца. Эта фантастическая буйная поросль не была похожа ни на какие рододендроны из тех, что я видела раньше.
Я взглянула на Максима. Он улыбался.
– Нравится? – спросил он.
Я сказала ему «да» чуть не шепотом, я не была уверена в том, правду ли я ему говорю; для меня рододендрон всегда был скромным домашним цветком сиреневого или розового цвета, который растет на аккуратных круглых клумбах почти в каждом саду. А эти чудовища, вздымавшиеся к небу, сплотившие свои ряды, как батальон, слишком прекрасны, думала я, слишком могучи, они вообще не цветы.
Мы были уже недалеко от дома, дорога изогнулась, стала той широкой подъездной аллеей, которую я надеялась увидеть с самого начала, и, все еще огражденные с обеих сторон кроваво-красными стенами, мы завернули за последний поворот и очутились перед Мэндерли. Да, это был он, тот самый дом, который я ожидала, Мэндерли с цветной открытки, купленной много лет назад. Воплощение изящества и красоты, изысканно-безупречный, прекраснее, чем я могла представить это в мечтах, он стоял в небольшой лощине, покрытой бархатистыми лужайками, полянами с шелковистой травой, зеленые террасы полого спускались к садам, сады – к морю. Когда мы подъехали к широкому каменному крыльцу и остановились перед открытой дверью, я увидела через высокие узкие трехстворчатые окна, что в холле полно людей.
– Черт побери эту женщину, ведь она прекрасно знает, что я этого не хотел, – проговорил вполголоса Максим и рывком затормозил машину.
– В чем дело? – спросила я. – Кто все эти люди?
– Боюсь, теперь тебе этого не избежать, – раздраженно ответил он. – Миссис Дэнверс собрала весь штат прислуги и всех, кто работает в поместье, чтобы приветствовать нас. Не волнуйся, тебе не придется ничего говорить, я возьму это на себя.
Я стала нащупывать ручку дверцы, меня немного подташнивало и знобило от долгого пути, и пока я возилась с замком, по ступеням спустился дворецкий в сопровождении ливрейного лакея и открыл передо мной дверцу.
Он был стар, у него было доброе лицо, и я улыбнулась ему и протянула руку, но он, видно, не заметил ее, потому что, вместо того чтобы ее пожать, взял мой плед и маленький дорожный несессер и обернулся к Максиму, в то же время помогая мне выйти из машины.
– Ну, вот мы и дома, Фрис, – сказал Максим, снимая перчатки. – Когда мы выезжали из Лондона, шел дождь. Похоже, что здесь дождя не было. Все здоровы?
– Да, сэр, благодарю вас, сэр. Нет, в этом месяце было мало дождей. Рад видеть вас в Мэндерли, надеюсь, вы в добром здравии? И мадам тоже?
– Да, мы оба чувствуем себя превосходно, спасибо, Фрис. Только сильно устали с дороги и хотим чаю. Я не ожидал всего этого. – Он дернул головой по направлению к холлу.
– Приказание миссис Дэнверс, сэр, – сказал дворецкий с непроницаемым выражением лица.
– Нетрудно догадаться, – коротко бросил Максим. – Пошли, – обернулся он ко мне, – это не займет много времени, выпьем чай потом.
Мы поднялись вместе по широкой лестнице, Фрис и лакей следом за нами, с пледом и моим макинтошем, и я почувствовала, как у меня засосало под ложечкой и сдавило судорогой горло.
Я закрываю глаза и как сейчас вижу себя такой, какая я была тогда – худенькая неловкая девушка в трикотажном платье, перчатки с крагами крепко зажаты во вспотевших ладонях, – когда стояла на пороге своего будущего дома. Я вижу огромный каменный холл, широко распахнутые двери в библиотеку, картины Питера Лели и Ван Дейка на стенах, изящную лестницу на галерею менестрелей, а в холле – ряд за рядом, вплоть до каменных переходов в глубине и до столовой – лица, море лиц, глядящих на меня с жадным любопытством, словно они – толпа зевак, собравшихся у лобного места, а я – жертва, со связанными за спиной руками, приведенная на плаху. От моря лиц отделилась какая-то фигура, высокая и костлявая, одетая в глубокий траур; выступающие скулы и большие ввалившиеся глаза придавали ее бледному пергаментному лицу сходство с черепом, венчающим костяк.







