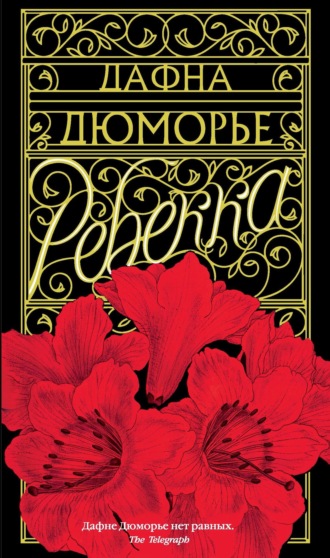
Дафна дю Морье
Ребекка
Я сидела неподвижно, сложив руки на коленях, не зная, всерьез он говорит или нет.
– Ну, – продолжал он, – что же вы намерены делать?
Если бы я была на год или на два моложе, я, верно, просто разревелась бы. У детей слезы всегда наготове и льются в любой критический момент. Даже сейчас я чувствовала, что они щиплют мне глаза, чувствовала, как заливает мне краской лицо, и, поймав случайно свое отражение в зеркальце над ветровым стеклом, увидела, какое я представляю собой жалкое зрелище: встревоженный взгляд, пунцовые щеки, прямые волосы висят из-под широкополой фетровой шляпы.
– Я хочу обратно, – сказала я с предательской дрожью в голосе, и без единого слова он завел мотор, включил сцепление и повел машину назад по тому же пути.
Мы ехали быстро, слишком быстро, думала я, слишком легко, и луга по сторонам смотрели на нас с черствым равнодушием. Мы оказались у того поворота дороги, который я хотела навсегда запечатлеть в памяти, и он был ничем не лучше любого другого поворота на любой дороге, по которой проходят тысячи машин. Деревенская девушка исчезла, краски поблекли. Чары исчезли вместе с моим радостным настроением, и при мысли об этом мое застывшее лицо дрогнуло, «взрослая» гордость исчезла, и позорные слезы, празднуя победу, брызнули из глаз и потекли по щекам.
Я не могла их остановить, эти непрошеные слезы, ведь если бы я полезла в карман за платком, он бы сразу увидел. Они падали и падали, оставляя горько-соленый вкус на губах, погружая меня все глубже в пучину позора. Я не знаю, повернулся ли он, чтобы взглянуть на меня, потому что сама не отрывала затуманенных глаз от расплывающейся дороги, но внезапно он протянул руку, взял ею мою и поцеловал, все еще ничего не говоря, затем кинул носовой платок мне на колени, но мне было стыдно дотронуться до него.
Я думала обо всех этих бесчисленных героинях романов, которые хорошели от слез, и о том, как не похожа была на них я со своим распухшим, покрытым пятнами лицом и красными глазами. Какой печальный конец радостного утра, какой долгий день ждет меня впереди. Сиделка собиралась уйти, так что ланч мне предстоял в обществе миссис Ван-Хоппер у нее в номере, а после ланча, полная неутомимой энергии, как все выздоравливающие, она заставит меня играть с ней в безик. Я знала, что буду задыхаться у нее в комнате. Мне был противен вид скомканных простыней, свисающих до полу одеял и взбитых подушек и ночного столика, грязного, засыпанного пудрой, залитого духами и тающими румянами. Постель будет завалена отдельными листами ежедневных газет, сложенных как попало, и французскими романами с оторванными обложками и загнутыми краями вперемешку с американскими журналами. Повсюду – в баночках с кремом, в блюдах с виноградом и на полу под кроватью – будут валяться окурки сигарет. Посетители не скупились на цветы, и бок о бок стояли вазы с самыми разными цветами: оранжерейные экзотические растения – рядом с простой мимозой, и, возвышаясь над ними, их увенчивала украшенная лентами корзина, где ряд за рядом лежали засахаренные фрукты. Позже к ней зайдут друзья выпить коктейли, которые я должна буду смешивать, как мне это ни ненавистно, – неловкая, не знающая, куда девать глаза и руки, окруженная их бессмысленной болтовней. Я снова буду чувствовать себя мальчиком для битья и краснеть за миссис Ван-Хоппер, когда, придя в возбуждение от гостей, она станет слишком громко говорить, слишком долго смеяться и, поставив пластинку, примется, сидя в постели, подрагивать в такт музыке пышными плечами. Пусть уж лучше будет раздраженной и сварливой, с волосами, закрученными на папильотки, пусть ругает меня за то, что я забыла купить английскую соль. Все это ждало меня у нее в люксе, а он, расставшись со мной у дверей отеля, пойдет куда-нибудь один, быть может, к морю, навстречу ветру, вслед за солнцем, и – кто знает? – опять затеряется в воспоминаниях, о которых мне ничего не известно, которые я не могу с ним разделить, станет блуждать по давно ушедшим годам.
Пропасть, разделявшая нас, еще больше разверзлась, он стоял, повернувшись ко мне спиной, на другом краю. Я почувствовала себя такой юной, такой маленькой, такой одинокой, что, забыв про гордость, взяла его платок и высморкала нос. Меня больше не трогал мой вид. Какое это имело значение!
– К черту! – внезапно сказал он, словно ему все это надоело, словно он рассердился, и, притянув к себе, он обнял меня левой рукой за плечи, по-прежнему глядя прямо вперед, правая рука на руле. Я помню, что он вел машину еще быстрее, чем раньше. – Ты, верно, годишься мне в дочери по годам, и я не знаю, как себя с тобой вести.
Дорога сузилась у поворота, и ему пришлось сделать крутой вираж, чтобы не наехать на собаку. Я думала, он меня отпустит, но он продолжал прижимать меня к себе и, когда дорога выровнялась, так и не убрал руки.
– Забудь все, что я говорил сегодня, – сказал он. – Со всем этим покончено. Навсегда. Не будем больше об этом думать. Мои родные зовут меня Максим. Мне было бы приятно, если бы ты тоже так меня называла. Ты достаточно долго держалась со мной церемонно. – Он нащупал поля моей фетровой шляпы, снял ее, кинул через плечо на заднее сиденье, а потом наклонился и поцеловал меня в макушку. – И обещай, что никогда не будешь носить черных атласных платьев.
Тут уж я улыбнулась, он рассмеялся в ответ, и утро снова сделалось радостным и сияющим, снова излучало веселье. Что мне до миссис Ван-Хоппер?! О ней и думать не стоит. Несколько часов с ней пройдут так быстро, а впереди еще вечер и целый завтрашний день. Все во мне ликовало, я почувствовала такую уверенность в себе, я даже так осмелела в эту минуту, что чуть ли не считала себя с ним на равных. Я видела, как – не торопясь – захожу в спальню миссис Ван-Хоппер, уже опаздывая на безик, и в ответ на ее вопрос отвечаю с небрежным зевком: «Я забыла о времени. Я завтракала с Максимом».
Я была еще таким ребенком, что право звать человека по имени воспринималось мной как перо на шляпе, хотя сам-то он звал меня по имени с первого дня. Это утро, несмотря на все темные минуты, продвинуло меня на новую ступень дружбы, я не так уж далеко отстала от него, как мне казалось. И он поцеловал меня – вполне естественное дело, когда хочешь утешить и успокоить. Ничего драматического, как в романах. Ничего нескромного. Меня это ничуть не сконфузило. Казалось, его поцелуй сделал наши отношения непринужденнее, все стало проще. Через разделявшую нас пропасть был наконец перекинут мост. Я могла называть его Максим.
Играть с миссис Ван-Хоппер в безик оказалось менее тоскливо, чем я ожидала, хотя у меня и не хватило смелости рассказать ей, как я провела утро. Когда, кончив игру, собрав карты и протягивая руку к футляру, чтобы их спрятать, она небрежно спросила:
– Скажи, Макс де Уинтер все еще в отеле?
Я замешкалась на секунду, как пловец перед прыжком в воду, а затем, потеряв присутствие духа и с таким трудом давшееся самообладание, пролепетала:
– Да, кажется… я встречала его в ресторане…
Кто-то ей рассказал, подумала я, кто-то видел нас вместе, тренерша по теннису пожаловалась на меня, управляющий прислал записку. Я ждала нападения. Но она продолжала, позевывая, вкладывать карты в футляр, в то время как я поправляла развороченную постель. Я дала ей баночку с пудрой, сухие румяна и помаду, и, отложив карты, она взяла зеркало с ночного столика.
– Симпатичный мужчина, – сказала она, – но несколько странный, по-моему, его не поймешь. Я думала тогда, в гостиной, он хотя бы из вежливости пригласит меня в Мэндерли, но он держался так холодно.
Я ничего не сказала. Я смотрела, как она берет помаду и рисует сердечко на своих тонких губах.
– Я никогда ее не видела, – продолжала миссис Ван-Хоппер, отставляя зеркало подальше, чтобы полюбоваться результатом, – но, говорят, она была очень красива. Всегда изысканно одевалась, блестящая женщина во всех отношениях. Они устраивали в Мэндерли потрясающие приемы. Все это произошло так внезапно, так трагически. Говорят, он ее обожал. К этой яркой помаде, милочка, мне нужна пудра более темного оттенка. Достаньте мне ее, пожалуйста, а эту коробочку положите в ящик.
И мы занялись пудрой, духами и румянами, пока звонок не возвестил, что пришли гости. Я подавала коктейли, я меняла пластинки на граммофоне, выкидывала окурки сигарет, все это тупо, почти ничего не говоря.
– Рисовали что-нибудь, милочка, в последнее время?
Деланая сердечность старого банкира, его монокль, болтающийся на ленте, и моя фальшивая улыбка.
– Нет, в последнее время нет; не хотите ли сигарету?
Отвечала ему не я, меня вообще там не было. Я следила мысленным взором за призраком, туманные очертания которого наконец стали приобретать какую-то четкость. Черты его были расплывчаты, цвет лица смутен, разрез глаз и оттенок волос все еще неизвестен, их все еще надо было разглядеть.
Она обладала красотой, которая не умирает, и улыбкой, которую нельзя забыть. Где-то все еще звучал ее голос, в чьей-то памяти оставались ее слова. Существовали места, где она бывала, вещи, которых она касалась. Возможно, в шкафах все еще висели ее платья и витал запах ее духов. У меня в спальне под подушкой лежала книга, которую она держала в руках; я так и видела, как она раскрывает ее на первой чистой странице и, стряхнув перо, пишет с улыбкой: «Максу от Ребекки». Наверно, это был день его рождения, и она положила книгу утром среди прочих своих подарков на столике у кровати. Они смеялись вместе, когда он срывал бумагу и тесемку. Возможно, она перегнулась через его плечо, когда он читал надпись: «Максу…» Она называла его Макс. Имя звучало весело, интимно и легко слетало с языка. Родные могли называть его Максим, если хотели. Всякие там бабушки и тетки. И люди вроде меня, тихие, скучные и слишком молодые, которые не представляли для него интереса. Она выбрала другое – Макс, это имя принадлежало ей одной, достаточно взглянуть, как она написала его на титульном листе. Эта четкая, косая надпись, перо, чуть не прорвавшее бумагу, символ ее самой, такой твердой, такой уверенной в себе.
Сколько раз она, должно быть, писала ему, и всякий раз по-разному, в зависимости от настроения.
Записочки, нацарапанные на клочках бумаги, и письма, когда он уезжал далеко, страница за страницей, интимные, с новостями, касавшимися их одних. Ее голос, все еще звучавший в доме и в саду, небрежный и привычный, как надпись на книге…
А мне велено звать его Максим.
Глава VI
Укладывание вещей. Бесконечная предотъездная суета. Потерянные ключи, ненадписанные ярлыки, папиросная бумага на полу. Как я все это ненавижу. Даже сейчас, когда мне так часто приходится переезжать, когда я все время, как говорится, сижу на чемоданах. Даже теперь, когда задвигать ящики и распахивать дверцы платяных шкафов и комодов в отеле или меблированной вилле стало делом привычки, установленным порядком вещей, я не могу отделаться от грусти, от чувства утраты. Здесь, говорю я себе, мы жили, мы были счастливы. Это был наш дом, хоть и недолго. Пусть мы провели под этой крышей всего две ночи, мы оставляем позади частицу самих себя. Не что-то материальное – шпильку на туалетном столике, пустую коробочку от аспирина, платок под подушкой, – нет, то, что невозможно выразить в словах, миг нашей жизни, мысль, настроение.
Этот дом дал нам приют, мы разговаривали, мы любили в этих стенах. То было вчера. Сегодня мы двигаемся дальше, мы больше его не увидим, и сами мы стали другими, изменились, пусть самую малость. Мы не станем прежними. Даже когда мы останавливаемся позавтракать в придорожной гостинице и я иду в чужую темную комнату вымыть руки, все – и ручка впервые увиденной двери, и отстающие полосами обои, и смешное треснутое зеркальце над рукомойником, – все это на мгновение становится моим, принадлежит мне. Мы знаем друг друга. Здесь – настоящее. Нет ни прошлого, ни будущего. Вот я мою руки, и треснутое зеркальце отражает меня как бы застывшей во времени. Это я, этот момент – сейчас.
А затем я открываю дверь и иду в столовую, где он ждет меня, сидя за столиком, и думаю о том, как за этот миг я постарела, сделала еще один шаг к неизвестному концу, предначертанному мне.
Мы улыбаемся, выбираем блюда, болтаем о том о сем, но – говорю я себе – я не та, что оставила его пять минут назад. Я – другая женщина, старше, более зрелая…
Я прочитала на днях в газете, что отель «Кот-д’Азюр» в Монте-Карло перешел в другие руки и называется теперь по-иному. Комнаты обставили заново, изменили весь интерьер. Возможно, номера люкс миссис Ван-Хоппер на втором этаже больше не существует. Возможно, от спаленки, бывшей моею, не осталось и следа. В тот день, когда, стоя на коленях, я сражалась с тугой застежкой ее чемодана, я знала, что никогда не вернусь.
Замок защелкнулся, и это был конец. Я выглянула из окна, точно перевернула страницу альбома с фотографиями. Эти крыши и море больше мне не принадлежат. Они были частью вчерашнего дня, частью прошлого. На комнатах, откуда вынесли наши пожитки, уже лежала печать пустоты, у номера был какой-то голодный вид, словно он хотел, чтобы мы скорее уехали, хотел видеть вместо нас новых жильцов. Тяжелые чемоданы, запертые и затянутые ремнями, уже стояли в коридоре за дверью, мелочи еще предстояло уложить. Корзинки для мусора стонали под тяжестью целой кучи пузырьков от лекарств, баночек из-под крема, порванных счетов и писем. Зияли пустотой ящики столов, с бюро было снято все до последней вещи.
Вчера утром за завтраком, в то время как я разливала кофе, миссис Ван-Хоппер кинула мне письмо:
– Элен отплывает в Нью-Йорк в субботу. У крошки Нелли, возможно, аппендицит, и Элен вызвали телеграммой домой. Это решает вопрос. Мы тоже едем. Мне до смерти надоела Европа, а ранней осенью мы сможем вернуться сюда. Вы, верно, не прочь посмотреть Нью-Йорк?
Мысль об этом была для меня хуже смерти. Должно быть, я не сумела до конца скрыть своих чувств, потому что сперва у нее сделался удивленный, затем негодующий вид.
– Какая вы странная девушка, я никак не могу вас понять. Вам ничем не угодишь. В Америке девушки в вашем положении, девушки без денег, чудесно проводят время. Масса развлечений. Куча кавалеров. Одного с вами круга. Заведете свою небольшую компанию. Мне меньше понадобятся ваши услуги. Я думала, вам не нравится Монте.
– Я при… привыкла к нему, – сказала я, запинаясь, удрученно, с борьбой в душе.
– Ну, придется вам теперь привыкнуть к Нью-Йорку, вот и все. Мы должны попасть на тот же пароход, что и Элен, а это значит – надо немедленно заняться билетами. Спуститесь сейчас к портье и заставьте этого молодого человека проявить хоть какие-то признаки расторопности. Вы будете так заняты весь день, что у вас не хватит времени страдать из-за разлуки с Монте.
Она злорадно засмеялась и, потушив сигарету о масленку, взялась за телефонную трубку, чтобы обзвонить всех своих друзей.
Я просто не в силах была так сразу разговаривать с портье. Я пошла в ванную комнату, заперла дверь и села на пробковый мат, уронив голову на руки. Вот наконец он и грянул – наш отъезд. Все кончено. Завтра вечером я буду в поезде, в спальном вагоне, держа, как горничная, шкатулку с драгоценностями и плед, а напротив меня будет сидеть миссис Ван-Хоппер в этой ее чудовищной новой шляпе с пером, еще более приземистая и квадратная из-за меховой шубы. Мы будем умываться и чистить зубы в душном тесном туалете с дребезжащими дверьми, забрызганным умывальником, сырым полотенцем, мылом, к которому прилип волосок, полупустым графином и неизменной надписью на стене: «Sous le lavabo se trouve une vase»[11] – и перестук колес, каждый рывок и толчок гудящего поезда будет говорить мне о том, что все больше миль отделяют меня от него, а он сидит один в ресторане за нашим столиком, читает книгу и не вспоминает обо мне – ему все равно…
Я попрощаюсь с ним перед отъездом, скорее всего в гостиной. Наспех, украдкой, из-за миссис Ван-Хоппер. Пауза… улыбка… что-нибудь вроде: «Да, конечно, пожалуйста, пишите», – и: «Я так и не успела вас как следует поблагодарить за вашу доброту», – и: «Вы перешлете мне снимки?» – «По какому адресу?» – «Я вам сообщу…» И он небрежно закурит сигарету, попросив спичку у проходящего официанта, а я буду думать: «Еще четыре с половиной минуты, и больше я его никогда не увижу».
И потому что я уезжаю, потому что все кончилось, нам внезапно нечего будет сказать друг другу, мы станем незнакомцами, встретившимися в последний и единственный раз, а моя душа будет громко, мучительно кричать: «Я так вас люблю. Я ужасно несчастна. Со мной еще такого не было и никогда не будет». На лице у меня застынет натянутая, подобающая случаю улыбка, мой голос произнесет: «Посмотрите на этого забавного старичка вон там. Интересно, кто это, он, должно быть, недавно приехал». И мы потратим последние драгоценные мгновения, подсмеиваясь над чужаком, потому что сами станем чужими друг другу. «Надеюсь, снимки получатся хорошие», – повторяю я в отчаянии свои слова, а он: «Да, фотография площади должна быть удачной, было как раз подходящее освещение». Мы уже обсуждали это раньше и пришли к одному мнению, и даже если бы у него ничего не вышло, кроме туманных темных отпечатков, мне было бы все равно, потому что настала последняя секунда, мы подошли к завершающему «прощай».
«Что ж, – моя ужасная улыбка еще шире расплывается по лицу, – еще раз огромное вам спасибо. Все было потрясно…» – слово, которое я никогда раньше не употребляла. «Потрясно» – что это значит? Бог ведает, мне было все равно: слово, которое девочки в школе говорят, например, о хоккее, на редкость неподходящее слово для этих недель жгучей муки и жгучего восторга. А затем откроются дверцы лифта и выпустят миссис Ван-Хоппер, и я перейду гостиную, чтобы ее встретить, а он скроется в углу и возьмет газету.
Все это я представила в уме, сидя в нелепой позе на полу ванной комнаты, – и нашу поездку, и прибытие в Нью-Йорк. Пронзительный голос Элен, более тощий вариант матери, и ее ужасный ребенок Нелли. Юноши из колледжей, с которыми станет знакомить меня миссис Ван-Хоппер, молодые банковские служащие подходящего для меня «круга». «Встретимся в среду вечером, ладно?» – «Ты любишь джаз?» Курносые юнцы с лоснящимися лицами. Необходимость быть вежливой. И – одно желание: остаться наедине со своими мыслями, так, как сейчас, запершись в ванной…
Стук в дверь.
– Что вы там делаете?
– Все в порядке… простите. Я выхожу.
Я открыла и закрыла воду, потопталась по ванной, словно вешала на вешалку полотенце.
Она с любопытством взглянула на меня, когда я открыла дверь.
– Вы пробыли здесь целую вечность. Сегодня нет времени мечтать, это слишком большая роскошь, у нас полно дел.
Он, конечно, вернется в Мэндерли через несколько недель. Я в этом не сомневалась. В холле его будет ждать целая гора писем, среди них мое, нацарапанное на пароходе. Вымученное письмо, где я буду стараться его позабавить, описывая плывущих вместе со мной пассажиров. Оно заваляется среди промокательной бумаги, и он ответит на него много недель спустя, как-нибудь воскресным утром, наспех, перед ланчем, наткнувшись на него, когда будет просматривать неоплаченные счета. И на этом все. Вплоть до Рождества, когда – окончательное унижение – я получу поздравительную открытку. Возможно, с видом Мэндерли на заснеженном фоне. Печатный текст. «Счастливого Рождества и успехов в новом году. От Максимилиана де Уинтера». Золотыми буквами. Из любезности он перечеркнет напечатанное имя и напишет чернилами внизу: «От Максима», – бросит подачку, а если останется место, добавит: «Надеюсь, вам нравится Нью-Йорк». Заклеит конверт, прилепит марку и кинет письмо в общую груду из сотни других.
– Очень жаль, что вы завтра уезжаете, – сказал портье, не выпуская из рук телефонной трубки. – На следующей неделе начнутся гастроли балета. Миссис Ван-Хоппер об этом знает?
Я силком вернула себя от Рождества в Мэндерли к реальной жизни и билетам в спальный вагон.
Миссис Ван-Хоппер впервые завтракала в ресторане после инфлюэнцы, и, когда я следовала за ней в зал, у меня сосало под ложечкой. Он уехал на весь день в Канн, это я знала, он накануне меня об этом предупредил; но вдруг официант нечаянно спросит: «Мадемуазель будет сегодня обедать с месье, как всегда?» Всякий раз, как он приближался к столику, мне делалось дурно от страха, но он ничего не сказал.
Весь день я укладывала вещи, а вечером пришли ее друзья прощаться. Мы поужинали в номере, и миссис Ван-Хоппер тут же легла. Его я все еще не видела. Около половины десятого я спустилась в гостиную под предлогом, что мне нужны бирки для чемоданов, но его там не было. Мерзкий портье улыбнулся, увидев меня.
– Если вы ищете мистера де Уинтера, он звонил из Канна, что вернется не раньше полуночи.
– Мне нужен пакет багажных бирок, – сказала я, но по глазам портье увидела, что не обманула его. Значит, нашего последнего вечера тоже не будет. Часы, которых я так ждала весь день, придется провести одной, в моей собственной спальне, глядя на дешевый чемодан и туго набитый портплед. Возможно, это и к лучшему, я была бы плохой собеседницей, и он, возможно, все прочитал бы у меня на лице.
Я знаю, что плакала той ночью, плакала горькими слезами юности, которых сейчас у меня больше нет. После двадцати лет мы уже не плачем так, зарывшись лицом в подушку. Биение пульса в висках, распухшие глаза, судорожный комок в горле. Отчаянные попытки утром скрыть следы этих слез, губка с холодной водой, примочки, одеколон, вороватый мазок пуховкой, говорящий сам за себя. И панический страх, как бы опять не заплакать, когда набухают влагой глаза и неотвратимое дрожание век вот-вот приведет к катастрофе. Помню, как я распахнула окно и высунулась наружу, надеясь, что свежий утренний воздух смоет предательскую красноту под пудрой. Никогда еще солнце не светило так ярко, никогда день не обещал быть таким хорошим. Монте-Карло неожиданно преисполнился доброты и очарования, единственное место на свете, в котором была неподдельность. Я любила его. Меня захлестывала нежность. Я хотела бы жить здесь всю жизнь. А я сегодня уезжаю. В последний раз причесываюсь перед этим зеркалом, в последний раз чищу зубы над этим тазом. Никогда больше не буду я спать на этой кровати. Никогда не погашу здесь свет… Хорошенькая картинка – брожу в халате по комнате и распускаю нюни из-за самого обычного гостиничного номера.
– Вы, надеюсь, не простудились? – спросила миссис Ван-Хоппер за завтраком.
– Нет, – сказала я. – Не думаю, – хватаюсь за соломинку, ведь простуда сможет послужить объяснением, если у меня будут чересчур красные глаза.
– Терпеть не могу сидеть на месте, когда все уложено, – проворчала она. – Надо было нам взять билеты на более ранний поезд. Мы бы достали их, если бы постарались, и смогли бы дольше пробыть в Париже. Пошлите Элен телеграмму, чтобы она нас не встречала, устроила другую rendez-vous[12]. Интересно… – Она взглянула на часы. – Пожалуй, еще не поздно заменить билеты. Во всяком случае, стоит попытаться. Спуститесь-ка вниз, в контору, узнайте.
– Хорошо, – сказала я, марионетка в ее руках, и, пойдя к себе в комнату, скинула халат, застегнула неизменную юбку и натянула через голову вязаный джемпер. Мое равнодушие к миссис Ван-Хоппер перешло в ненависть. Значит, это конец, у меня отнято даже утро. Не будет последнего получаса на террасе, возможно, не будет даже десяти минут, чтобы попрощаться с ним. Потому что она закончила завтрак раньше, чем ожидала, потому что ей скучно. Что ж, раз так, я забуду о гордости, отброшу сдержанность и скромность. Со стуком захлопнув дверь, я кинулась по коридору. Я не стала ждать лифта и взбежала по лестнице на четвертый этаж, перескакивая через три ступеньки. Я знала номер его комнаты – 148 – и, запыхавшаяся, красная, принялась колотить в дверь.
– Войдите! – крикнул он, и вот я на пороге, уже раскаиваясь в своей дерзости; возможно, он только что проснулся, ведь он вчера вернулся поздно, и все еще в постели, растрепанный и сердитый.
Он брился у открытого окна: поверх пижамы на нем была куртка из верблюжьей шерсти; и я, в своем костюме и тяжелых туфлях, почувствовала себя неуклюжей и безвкусно одетой. Мне казалось, что происходит драма, а я просто была смешна.
– В чем дело? – спросил он. – Что-нибудь случилось?
– Я пришла попрощаться, – сказала я. – Мы сегодня уезжаем.
Он глядел на меня во все глаза, затем положил бритву на умывальник.
– Закрой дверь, – сказал он.
Я прикрыла ее за собой и стояла, опустив руки, чувствуя себя очень неловко.
– О чем, бога ради, ты толкуешь? – спросил он.
– Правда, мы сегодня уезжаем. Мы должны были ехать более поздним поездом, а теперь она хочет поспеть на ранний, и я испугалась, что больше вас не увижу. Я должна была увидеть вас перед отъездом и поблагодарить за все.
Они обгоняли друг друга, эти идиотские слова, в точности как я представляла. Я держалась неловко, неестественно, еще минута, и я скажу, что он вел себя «потрясно».
– Почему ты мне раньше не сказала? – спросил он.
– Она решила это только вчера. Все делалось в спешке. Ее дочь отплывает в субботу в Нью-Йорк, и мы вместе с ней. Мы присоединимся к ней в Париже и выедем втроем в Шербург.
– Она берет тебя с собой в Нью-Йорк?
– Да, а я не хочу туда ехать. Я его возненавижу. Я буду несчастна.
– Зачем же, ради всего святого, ты тогда едешь?
– У меня нет выбора, вы это знаете. Я работаю за жалованье. Я не могу позволить себе ее оставить.
Он снова взял бритву и снял мыльную пену с лица.
– Сядь, – сказал он. – Я скоро. Оденусь в ванной комнате, буду готов через пять минут.
Он подхватил одежду, лежавшую на кресле, и бросил ее на пол ванной комнаты, затем вошел туда, захлопнув дверь. Я села на постель и принялась грызть ногти. Все это казалось нереальным, я чувствовала себя персонажем фантастического спектакля. О чем он думает? Что он намерен предпринять? Я обвела взглядом комнату, она ничем не отличалась от комнаты любого другого мужчины, неаккуратная, безликая. Куча обуви, больше, чем может быть надо, и несколько рядов галстуков. На туалетном столике ничего, кроме большого флакона с шампунем и двух щеток для волос из слоновой кости. Никаких художественных фотографий, никаких моментальных снимков. Ничего в этом роде. Я, сама того не замечая, искала их, думая, что уж одна-то фотокарточка будет стоять на столике у кровати или на каминной полке. Большая, в кожаной рамке. Однако там лежали лишь книги и пачка сигарет.
Он был готов, как и обещал, через пять минут.
– Посиди со мной на террасе, пока я буду завтракать, – сказал он.
Я взглянула на часы.
– У меня уже не осталось времени. В эту самую минуту мне следует быть в конторе, менять забронированные места.
– Забудь об этом, – сказал он. – Нам надо поговорить.
Мы прошли по коридору, и он вызвал лифт. Он не понимает, думала я, что ранний поезд отправляется через полтора часа. Через минуту миссис Ван-Хоппер позвонит в контору и спросит, там ли я. Мы спустились в лифте, по-прежнему молча, так же молча вышли на террасу, где были накрыты к завтраку столики.
– Что ты будешь есть? – спросил он.
– Я уже завтракала, – ответила я, – да у меня и осталось всего три минуты.
– Принесите мне кофе, крутое яйцо, тост, апельсиновый джем и мандарин, – сказал он официанту.
Он вынул пилочку из кармана и стал подтачивать ногти.
– Значит, миссис Ван-Хоппер надоел Монте-Карло, – сказал он, – и она хочет вернуться домой. Я тоже. Она – в Нью-Йорк, я – в Мэндерли. Какое из этих мест предпочитаешь ты? Выбирай.
– Не шутите такими вещами, это нечестно, – сказала я. – И вообще, мне надо попрощаться с вами и пойти заняться билетами.
– Если ты думаешь, что я один из тех людей, которые любят острить за завтраком, ты ошибаешься, – сказал он. – У меня по утрам всегда плохое настроение. Повторяю, выбор за тобой, или ты едешь в Америку с миссис Ван-Хоппер, или домой, в Мэндерли, со мной.
– Вы хотите сказать, вам нужна секретарша или что-нибудь в этом роде?
– Нет, я предлагаю тебе выйти за меня замуж, дурочка.
Подошел официант с завтраком, и я сидела, сложив руки на коленях, пока он ставил на стол кофейник и кувшинчик с молоком.
– Вы не понимаете, – сказала я, когда он ушел, – я не из тех девушек, на которых женятся.
– Какого черта! Что ты имеешь в виду? – спросил он, положив ложку, и уставился на меня.
Я смотрела, как на джем садится муха, и он нетерпеливо сгоняет ее.
– Не знаю, – медленно проговорила я, – я не уверена, что смогу это объяснить. Прежде всего, я не принадлежу к вашему кругу.
– А какой это «мой круг»?
– Ну… Мэндерли. Вы знаете, о чем я говорю.
Он снова взял ложку и положил себе джема.
– Ты почти так же невежественна, как миссис Ван-Хоппер, и в точности так же глупа. Что ты знаешь о Мэндерли? Мне, и только мне судить о том, подойдешь ты к нему или нет. Ты думаешь, я сделал тебе предложение под влиянием минуты, да? Потому что тебе не хочется ехать в Нью-Йорк? Ты думаешь, я прошу тебя выйти за меня замуж по той же причине, по которой, как ты полагаешь, катал тебя в машине да и пригласил на обед в тот – первый – вечер? Из доброты. Так?
– Да, – сказала я.
– Когда-нибудь, – сказал он, толстым слоем намазывая джем на тост, – ты поймешь, что человеколюбие не входит в число моих добродетелей. Сейчас, я думаю, ты вообще ничего не понимаешь. Ты не ответила на мой вопрос. Ты выйдешь за меня замуж?
Вряд ли мысль о такой возможности посещала меня даже в самых безудержных мечтах. Однажды, когда мы ехали с ним миля за милей, не обмениваясь ни словом, я стала сочинять про себя бессвязную историю о том, как он очень серьезно заболел, кажется горячкой, и послал за мной, и я за ним ухаживала. Я только дошла до того места в этой истории, когда смачивала ему виски одеколоном, как мы вернулись в отель и на этом все кончилось. А еще как-то раз я вообразила, будто живу в сторожке у ворот Мэндерли и он иногда заходит ко мне в гости и сидит перед очагом. Этот неожиданный разговор о браке озадачил меня, даже несколько, я думаю, напугал. Словно тебе сделал предложение король. В этом было что-то неестественное. А он продолжал есть джем, словно все так и должно быть. В книгах мужчины становились при этом перед женщинами на колени, и в окно светила луна. Не за завтраком. Не так.
– Похоже, что мое предложение не очень пришлось тебе по вкусу, – сказал он. – Сожалею. Мне казалось, ты любишь меня. Хороший щелчок по моему тщеславию.
– Я правда люблю вас. Я люблю вас ужасно. Вы сделали меня очень несчастной, и я проплакала всю ночь, потому что думала, я больше вас никогда не увижу.







