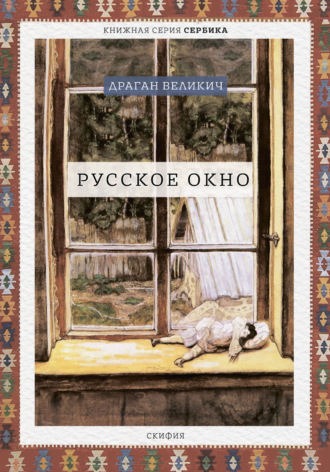
Драган Великич
Русское окно
Алиса
Четыре месяца в холодном пространстве. Собственники законченных историй в боксах холодильников, книги поступлений, рубрики с заключением патологов, время и место доставки. И рука Алисы, повернувшая верньер термостата. Почему у тебя так холодно? Она заметила, что у него мягкие ладони. Их касание успокаивает. Это руки художника? А может, терапевта? Он улыбнулся и сказал, что не хочет прерывать соглашение, достигнутое в ходе второй встречи на Репербане. Ты продолжай создавать новые узоры для галстуков и платков, ищи на Репербане новые образцы. Я буду рисовать, сказал Руди.
Это была игра, которой оба наслаждались, совершенствуя общение без вопросов и ответов. Оказываясь в квартире Руди, они вместе с одеждой сбрасывали сетчатую пелену обыденности, оставаясь телом к телу. Они тонули друг в друге, освободившись от построения отношений, что всегда подразумевает наличие позиций, а их постоянно приходится корректировать; рано или поздно интенсивность отношений слабеет. Оба они поддерживали связь, договариваясь о встречах за день. На час или два, иногда на всю ночь. Но это тоже были отношения. Последние две недели Руди казалось, будто они живут в разных концах замка, так что если они не виделись несколько дней, он все равно чувствовал присутствие другого человека, и это было приятно. Достаточно было Алисе уехать на несколько дней, то есть покинуть этот воображаемый замок, как Руди начинал испытывать чувство одиночества. А от этого оставался всего лишь шаг к мысли о том, продолжает ли Алиса поддерживать его манеру игры в этом представлении.
И тогда Руди думал, что каждая мысль, зафиксированная в рассказе, заключенная в фотографическую рамку, напоминает географическую карту, на которой линии заливов, равнин и возвышенностей отражают естественный облик рельефа и создают иллюзию некой полноты видения, которая на самом деле необозрима, следовательно, и не существует. Как на карте не обозначаются скалы и затоны, мелководья и подводные скалы, а в линиях гор не отражены глубокие пещеры и пни, оставшиеся от столетних дубов, так и в пересказанной жизни, скорее всего, отсутствуют важные детали, которые придавали ей смысл, наполняли ее стремлениями и ожиданиями.
Он стоял у окна. Всего в двадцати метрах на уровне его квартиры на третьем этаже проходила эстакада. Поезда по ней мчались днем и ночью. На стене комнаты, как на экране, отражался свет вагонных окон. Иногда ночью, внезапно проснувшись, Руди рассматривал белые огни, прислушивался к потрескиванию в глубине квартиры. Вся картина подрагивала, как снятая на кинопленку. Во время этих грохочущих секунд ему хотелось, чтобы комната вместе с ним превратилась в кадр этого исчезающего фильма, потому что на крутом повороте эстакады исчезали и красные позиционные огни последнего вагона. И опять наступала тишина. Он оставался брошенным на одиноком целлулоидном кадре, отрезанном от бобины, которая все дальше уносила большое событие. Совсем как в далеком детстве, на пыльной улице местечка, в котором он родился и о котором Алиса не знала ничего. Она, родившаяся в огромном порту, не могла представить пустынную дорогу, не улицу, плоскость асфальта, которая бессмысленно простирается по равнинному местечку, по этому бесконечному морскому дну. Даже название городка, в котором он родился, не в состоянии показать свой цвет, который даже вовсе и не цвет, а нечто среднее между блеском белизны и полной тьмой. Серость и дым. И когда перед тем, как ему пойти в гимназию, они переехали в ближайший город, Руди показалось, что они переселились на другую планету, и не только из-за театра и зданий, которые своей высотой формировали улицы, а из-за отсутствия надоевшей дороги, из-за незнакомых, но таких заметных интерьеров, черты которых на ходу схватывал его глаз.
Не важно, в каком направлении исчезали поезда: то ли в сторону гамбургского порта, то ли в направлении Острвицы. Это уже голос Даниэля, который не велит ему во время болезни приходить к нему домой. В Японии простуженные и на улице появляются в белых масках, а в метро есть специальные вагоны для гриппующих. Всегда мойте бананы, говорил Даниэль. Кто знает, что за обезьяны писали на них в Африке.
На сцене сейчас какое-то другое время, другое пространство. А он, Руди Ступар, загудел как поезд, связывая своим движением все те станции, что оставались без него пустыми. Достаточно одного взгляда, охватывающего на ходу внутренность какой-то квартиры, или лица одинокой молодой женщины за столом в витрине кафе, и в жилах Руди вскипает кровь, и он чувствует то самое вдохновение, которое вело его по улицам провинциального городка после переезда из родного местечка. Мир открывался, распахивался занавес. Руди бросался в многообещающие события. И что бы при этом ни происходило, как бы часто обстоятельства ни складывались в его пользу, шорох театрального занавеса вселял в него вдохновение, наполняя грудь трепетным ожиданием.
Алиса разделась и голая встала у углового окна. Вид на небольшой парк и корабли в гавани пересекала стальная конструкция железнодорожной эстакады. Луч солнца, проникший сквозь щель в деревянных жалюзи, поднятых под самый потолок, впился в лицо Алисы. Она щурилась, растягивая губы в улыбке. Ей нравилось тепло радиатора. Руди положил руки ей на плечи, она повернулась и прижалась к нему, как будто только это касание удерживает ее в жизни. Мысль о полных бедрах Алисы, о том, как она вскакивает на кровати и крепко охватывает его ногами в момент, когда он проникает в ее тело, возбудила Руди. Не отрываясь от ее губ, он сбросил с себя одежду на пол. Он целовал ее шею, груди, и с каждым движением, с каждой мыслью, мгновенно проносящейся в сознании, Руди терял самообладание, возбуждение росло, и в момент слияния в нем оставалось только имя этой женщины. Да, это был трюк, с помощью которого он поначалу справлялся с навязчивым видением – выстроившиеся в длинную очередь его голые предшественники. И не ревность вызывала осознание того, что эти безымянные личности наслаждались телом женщины, которая в этот миг принадлежит ему, но мысль о том, что для многих из них она была просто давно забытым объектом или же существует в сознании бывших любовников всего лишь как смутное воспоминание о знакомстве в поезде, краткая авантюра на летнем отдыхе, безымянное лицо с фотографии, сделанной однажды утром после празднования дня рождения, третья слева в первом ряду, со стройной фигуркой, подчеркнутой майкой в обтяжку грудью и с широкой улыбкой, являющейся, вероятно, следствием ночного спаривания с одним из молодых людей на той же фотографии. Возможно, потом она поддерживала случайные связи, разряжалась, становилась средством улучшения метаболизма, пробовала и сама была распробована, как пробуют любимое блюдо или бутылку хорошего вина. Да, был вечер, полный осознания того, что это полезно для здоровья, что тело питается удовольствиями, что его милая лежала в одной только рубашке и чья-то рука по-хозяйски лежала на голом бедре; и более того, была ее первая ночь, когда она продиралась сквозь кусты надуманных воспоминаний, желая вырваться из семейных пут, бежать от скучной жизни, утомительной учебы. Или, что еще хуже, ничего такого не было, просто любопытство; случайный тип мужского пола в первую ночь.
И вот он уже не с той особой, с которой лежит сейчас, а с придуманной, не способной принимать вещи и людей такими, каковы они есть. Да, именно в таком порядке: вещи, потом люди. Потому что о людях он судил по окружающим их вещам. Убежище просторной квартиры с высокими потолками, украшенными лепниной, резное дерево в огромной прихожей, мраморный пол в ванной, эмалированная раковина и ромб зеркала, запах холода и пыли, принесенный из таких разных пространств, от подвала семейного дома в родном местечке и театрального лабиринта в городе своего взросления до будапештской гарсоньеры на бульваре Эржебет и, позже, до холодных пространств фирмы «Парадизо».
Руди сам строил свою родословную. С каждой новой пристройкой изменения происходили там, где на первый взгляд ничего не изменилось, в тех заброшенных затонах памяти, где жива только дремота в объятиях окончательного порядка. Тем не менее тихая работа материала, перемена освещения, неприметная механика, благодаря которой и немота обретает звук, все это оставляло следы, предназначенные будущему археологу.
А ведь могло быть и так
Терраса во дворе дома на крутой улице Королевича Марко была студенческим адресом Руди во все его белградские годы. А было таковых семь. И было решение не возвращаться, понимание того, что города, как и женщин, завоевывают; была известная расслабленность в понимании того, что всем писано проиграть, но только каждый по-своему воспринимает горький вкус поражения. И конечно же, сроки отказа от всего бывают различными. Где бы он ни оказался, всюду сталкивался с бесперспективностью, были ли то книги на полках библиотек или девушки в прокуренных дискотеках. В надежном укрытии своих девятнадцати лет он упивался ролью проигравшего, беспричинного бунтаря. К приемным экзаменам в Академию он подготовил Чехова, «Лекцию о вреде табака», и монолог из «Фауста» Гете. Два года в драмкружке провинциальной гимназии казались Руди артистическим прошлым. Невозможность полностью овладеть ролью, достичь необходимой концентрации, чтобы преодолеть себя, приспособить внутреннюю структуру к появлению нового существа и создать еще одно лицо собственного духа следовала за ним как призрак с первых шагов по сцене и не желала покидать его. Но Руди не сдавался, он был уверен, что преодолеет все. Время от времени его охватывала дрожь, словно он идет по улице мимо распахнутого полуподвального окна, из которого несет стужей. Дрожь от удовольствия, что он идет против течения, но и тоска от того, что этого никто не замечает. Он рано заразился неизлечимым вирусом непонимания, укрылся за стенами высокой самооценки, позволил тени недооцененности, этому призраку, возникающему в начале любого пути, стать своим постоянным спутником, собеседником, своим вторым «я». И это второе «я» находило для него удобное объяснение всякому поступку, сужало пространство всякими непредвиденными шагами, связывало его талант; это второе «я» не подвергало сомнению его самосознание, закрывало все двери и сделало его правителем королевства, в котором противоречие намерений и решений лишает возможности любых действий.
Первый визит Руди в Академию: панический испуг при виде того, как легко другие навязывают себя комиссии, явно демонстрируя предсказуемое поведение (такой диагноз он поставил); ревность и ненависть к коллегам, одной ногой уже вступившим на подмостки, к клоунам, единственным даром которых была развязность; испуг из-за того, что более слабые кандидаты были убеждены в собственном успехе. Он не понимал, что только энергия, освобожденная в результате усилий, может пленять и завоевывать, что только она определяет уровень таланта, потому что без усилий он остается всего лишь золотой монетой на дне колодца. Руди не признавал, что талант не зависит от любых норм, любых категорий морали, что он сам по себе есть данность и потому не требует никакого разрешения для собственного проявления. То, что Руди воспринимал как дешевую легкость, на деле было воплощенной свободой перемещения иного в себе самом, постижением полной силы, осуществлением максимума актерского дарования в тот момент, когда это необходимо – на сцене. Итак, впервые провалившись на приемном экзамене, Руди попытался объяснить это не собственной неудачей, а успехом других, на его взгляд менее одаренных, как будто именно он сам обладает полномочиями верховного арбитра, и занялся сомнительной работой по сбору доказательств несправедливости мира, тем самым поставив под сомнение возможность каких-либо перемен. Он хотел завоевать не воюя, полюбить не любя, сделать не делая, играть не играя.
В сентябре он записался на дневное отделение германистики, не отказываясь от еще одной попытки поступить в Академию. Когда Руди участвовал в отборочном конкурсе, два парня поступили на актерское отделение со второй попытки. Надо было больше крутиться и расспрашивать, посоветовала ему рыжеволосая девушка, которая, по оценке комиссии, оказалась самой талантливой. Да, она права, думал Руди. Сейчас он тоже знает, как выглядит этот экзамен. Он был единственным, кто явился на приемный экзамен без всякой подготовки со специалистом, без знакомств, крутой и наглый. А там, в коридорах Академии, как на бульваре, происходили встречи, сверкали взгляды, болтали и смеялись, и над всей этой возбужденной молодежью парило леденящее присутствие членов комиссии, которые ежегодно режиссировали этот спектакль; оценка комиссии – оценка консилиума хирургов, принимающего решение, прежде чем скальпель начнет резать обездвиженное тело. И только он был вне этой компании. Или же воспринял все это слишком серьезно? И в то же время он слишком готов к уступкам, постоянно борется с искушением приоткрыть двери, ведущие в коридор какой-то иной возможности. Это и была опасная трещина. Тот второй в нем, который делает его открытым навстречу любому другому варианту, в критические моменты делает все бессмысленным. И что это такое – прирожденный артист? Набор особенностей, который большинство воспринимает как воплощение идеального образца? Коллективная мечта об избраннике? Необходимая пропорция патетики и предвидения? Или же существует игра помимо актерства, отсутствие заранее скроенного макета, нечто не сопровождаемое вздохом узнавания и легкое удовлетворение уже виденным? Идеально вывернутая подкладка, другое лицо того же предмета. Таким актером хотел стать Руди.
Между тем на занятиях по фонетике Руди был лучшим, хотя и старался выговаривать немецкие слова не как немец; в нем развилось нежелание имитировать, словно он получил право идеально говорить только на том языке, который выдумал сам. Перед ним стояла проблема: как создать уже созданное? Он хотел познать причины, которые возбуждают некоторых людей уже самим фактом их осознания. И почему этому придается такое значение? Скажем, председатель комиссии на приемном экзамене, профессор, который принимал новое поколение студентов, с первой же минуты выказал нетерпимое отношение к Руди. А Руди, изучив его внешний вид, жесты и поведение, постарался выяснить причины этого. Как будто профессор ментально был на связи с тем двойником внутри Руди, который делал бессмысленной любую мечту, потому что все то, от чего он хотел бежать, все то, что существовало как возможность – как в теле существует зародыш каждой болезни, – теперь пышно расцвело, здесь, перед комиссией. Да, профессор рассмотрел в этом провинциале спесивого заблудшего парня, мгновенно прочувствовал все стереотипные наслоения нервного парня или же, скорее опытом, а не проницательностью – потому что кто знает, сколько сотен студентов прошло перед его глазами, – определил для него место в бескрайнем ряду тех, кому было отказано в поступлении. Зная, что мать Руди руководила пошивочным цехом в театре, профессор почувствовал, что этот кандидат из городка, известного своим знаменитым театром, с детства хранит в себе запах ткани и звук ножниц, распарывающих полотно, стрекот швейных машин и потрескивание разгорающихся софитов, тени кулис и шум поднимающегося занавеса, струйки пыли на сцене во время утренних репетиций и блеск зеркал в тесных гримерках и что повышенную чувствительность своего существа воспринимает как избранность, как печать несомненного таланта. Профессор видел характерный пейзаж периферии, там, где село с приземистыми домами, широкими окнами и заборами существует как сценографический макет города, призванного показать затхлую расслабляющую неспешность, в то время как славная столичная театральная жизнь стремится завоевать провинцию, и что-то Руди в этой надуманной картине беспокоит, вероятно, воспоминания о собственном взрослении в маленьком городе; уже само то, что после учебы он остался в столице, Руди рассматривал как собственный успех.
Без настоящего мотива профессор сделал Руди протагонистом задуманной постановки. Он увидел в этом зажатом юноше нехватку здоровой агрессии, когда успех уже должен вписаться в траекторию его жизни, нечто, что не может миновать его, и потому нет причины заниматься этим.
С первыми шагами на сцене Руди почувствовал, как исчезает напряжение, как будто он не на приемном экзамене, а на террасе во дворе дома на улице Королевича Марко, там, где уже несколько дней, ловя на себе любопытные взгляды соседей, заучивал монологи. Потому что он заранее вписал в сценарий поступления хихиканье и зевание, хлопанье дверей, кашель, отсутствующие взгляды членов комиссии. Параллельно он вел диалог с носатым человеком, который сидел в центре и которого он мысленно называл профессором. Между ними разыгрывалось представление в представлении, и ничего не ускользнуло от внимания Руди. Ни налет отвращения во взгляде профессора, когда Руди произносил монолог Чехова, то самое место о побеге: «…и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять деревом, столбом, огородным пугалом, под широким небом, и глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий, ясный месяц, и забыть, забыть… О, как бы я хотел ничего не помнить!..» К чему эта равнодушная улыбка, и рука, на минуту застывшая в воздухе, перед тем как профессор задумался, прежде чем указательным пальцем прижать кончик своего огромного носа? И тем самым поставить точку в судьбе Руди.
Придя в назначенный день в Академию, он не обнаружил себя в списке принятых. Поздравил рыжеволосую девушку, которая оказалась в коридоре перед доской объявлений. Обменялись телефонами. Несколько позже, удаляясь неспешными шагами, он воспринял свое продвижение по ледяной пустыне как кадр из фильма, который только что начали снимать. Он не побежал к автобусной остановке, где только что остановился автобус, направляющийся в центр города. Некоторое время он не различал ни до или после, ни раньше или позже, ни быстро или медленно, существовало только безвоздушное пространство, в котором только сейчас стали обрисовываться контуры. В этот момент единственную реальность представляли автомобили на широких полосах шоссе.
И все было в том фильме: кабина суфлера, из которой доносится властный голос – в нескольких фразах пересказывается пролог, далее сценография интерьера, который изменится незначительно, несмотря на то что герой то и дело переходит из одного гостиничного номера в другой в ходе представления, а занавес опускается на короткое время, чтобы только обозначить акты, и он, как амфибия, погруженный в такие разные роли, в которых продолжает жить параллельной жизнью, независимо от того, провинциальный ли он врач или заключенный в темнице накануне казни, ревнивый муж или любовник при дворе. Все это могло быть, в этом-то и прелесть актерского ремесла. А он, Руди, прирожденный артист.
Узнавая на улице кого-нибудь из звезд провинциального городского театра, он чувствовал, что этот человек с сумкой в руке и в кепке на голове всего лишь частично является самим собой, и что дух его существует одновременно во всех обличьях, в которых он побывал, и что в этот момент он сидит на дачной веранде в неизвестно какой губернии, чистит яблоко, констатируя, что в этом году осень наступила раньше, что мухи ночью исчезли, или же спорит по поводу наследства, обнимает любовницу, но, что бы он ни делал, ничего не будет пустым и скучным. Пустые окрестности здания Академии напомнили Руди сцену в городке, где он родился и где прожил двенадцать лет – что соответствует первому акту или даже прологу, – где размеры относительны, а краски, звуки и запахи настолько интенсивны, что образуют стойкую субстанцию; где представление разыгрывается в отсутствие публики, перед пустым залом, на границе многообещающего мрака, в который позже впишется возбуждение тех, чье появление будет результатом распределения ролей помимо воли протагониста, потому что и ему в какой-то божественной раздаче отдана эпизодическая роль, эффектно исполненный мотив, скажем, образ проигравшего в глазах рыжеволосой девушки, чей номер телефона записан на листочке бумаги, вырванном из блокнота, и в течение некоторого времени это будет его единственная связь с Академией. И как начнет худеть этот блокнот, когда в октябре начнутся занятия, а записки, начертанные нервным почерком, начнут исчезать в чужих карманах и между страницами книг. И однажды он отчетливо понял, что в обличьях всех этих обладателей записок проявится отчетливая стратегия, в зависимости от обстоятельств, в которых эти записки возникают, и он понимает, что существующие преимущества снижают возможности эволюции. Так и поражение на вступительных экзаменах выглядело здесь, на пустом голом пространстве, неизбежным отрезком орбиты, которую он не может не пройти. Он приготовится к следующему году, не откажется. Вокруг него шумят улицы и бульвары, на каждом шагу он сталкивается с многообещающими взглядами, словно город целиком принадлежит ему. Он оставил за спиной провинциальное местечко, чеховскую сцену, по которой слоняются несостоявшиеся люди. А завтра он обязательно позвонит Рыжеволосой.


