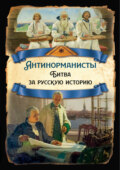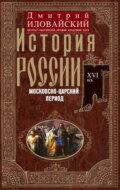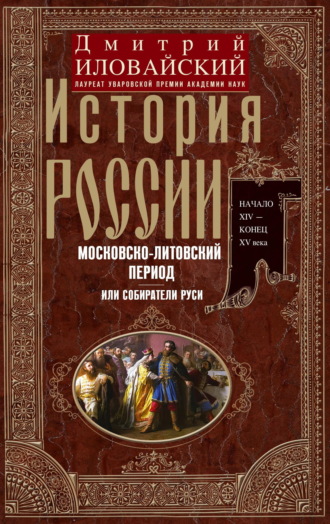
Дмитрий Иванович Иловайский
История России. Московско-литовский период, или Собиратели Руси. Начало XIV – конец XV века
На следующий год после Ольгерда скончался знаменитый митрополит и великий подвижник русский Алексей. Его руководство московской политикой при великом князе Иване Красном и в малолетство Димитрия Ивановича, его усердная патриотическая деятельность в пользу объединения Северо-Восточной Руси под верховенством Москвы сообщают ему в русской истории значение подобное тому, какое имеет во французской знаменитый кардинал Ришелье. Во-первых, он строго наблюдал за сохранением мира и согласия в самом княжеском семействе; так, мы видим несколько договорных грамот, заключенных при его посредстве между Димитрием Ивановичем и двоюродным братом последнего Владимиром Андреевичем. Этими грамотами улаживались возникавшие вопросы о волостях и скреплялись новыми клятвами дружба и согласие князей; причем Владимир постоянно обязывается повиновением великому князю, которого имеет себе «в отца место». Во-вторых, при столкновениях московского князя с другими русскими князьями Алексей не только решительно принимал сторону первого, но иногда против его соперников употреблял церковное оружие и всю силу своей духовной власти. Мы видели, что во время спора двух братьев Константиновичей он посылал игумена Сергия в Нижний Новгород с полномочием затворить там церкви и прекратить богослужение, а из ведения епископа Суздальского отписал при этом Нижегородскую область за то, что он держал сторону, противную Москве. Мы видели, как усердие свое к этой последней св. Алексей простер до того, что допустил взятие под стражу тверского князя Михаила, положившегося на третейский суд митрополита и лично прибывшего в Москву. А когда вслед за тем (в 1368 г.) возникла война с Ольгердом и смоленский князь Святослав явился в ней соратником литовского князя, вопреки предшествовавшему клятвенному договору своему с Димитрием, то митрополит предал Святослава церковному отлучению. Так же поступил он и с некоторыми другими князьями, изменившими подобному договору.
Понятно, что противники Москвы, в свою очередь, возненавидели Алексея, особенно Ольгерд Литовский и Михаил Тверской. Они неоднократно обращаются с жалобами на него в Константинополь к патриарху. «Доныне не было такого митрополита, каков этот митрополит: благословляет москвитян на пролитие крови! – писал Ольгерд патриарху Филофею в 1371 году. – И ни к нам не приходит, ни в Киев не отправляется. А кто целовал крест ко мне и убежит к нему, митрополит снимает с него крестное целование. Бывало ли такое дело на свете, чтобы снимать крестное целование?.. Подобало митрополиту благословлять москвитян, чтобы нам помогали, так как мы ратуем за них с немцами. А мы зовем митрополита к себе, и он нейдет к нам». В силу такого поведения Алексея Ольгерд просит патриарха назначить отдельного митрополита для русских областей, подвластных Литве, так же и для тех, где сидели шурин его (Михаил Тверской) и его зятья (Борис Суздальский и Иван Новосильский).
Еще прежде Ольгерда польский король Казимир, завладевший Галичем, требовал у того же патриарха назначить особого митрополита для Малой России, грозя в противном случае обратить подвластную себе Русь в латинство. Ввиду такой угрозы патриарх действительно поставил некоего епископа Антония особым митрополитом в Галич с подчинением ему епархии Холмской, Туровской, Перемышльской и Владимиро-Волынской. Этот пример, конечно, поощрял и Ольгерда в его стремлении получить особого митрополита. Но византийские власти, светская и духовная, медлили исполнить его просьбу: хотя писали в Москву о его жалобах, но, очевидно, старались поддержать единство Русской церкви и не желали оскорбить митрополита Алексея и великого князя Димитрия, от которых приходили в Царьград посольства с ответными грамотами и богатыми дарами. Наконец (в 1373 г.) патриарх Филофей отправил в Россию своим послом инока Киприана, родом серба, чтобы он, разобрав взаимные жалобы Ольгерда и митрополита Алексея, постарался их примирить. Но хитрый, честолюбивый Киприан воспользовался этим посольством, чтобы себе самому проложить дорогу к русскому митрополичьему престолу. Он сумел сначала войти в доверие к Алексею и успокоить его разными обещаниями, а потом отправился в Литву и подольстился к Ольгерду. Киприан воротился в Царьград с грамотами (неизвестно, подлинными или подложными), в которых литовские князья настоятельно просили поставить его митрополитом. Патриарх на этот раз уступил и рукоположил Киприана в митрополита Киевского и Литовского с правом распространить свою власть и на Восточную Россию по смерти Алексея. Киприан поселился в Киеве и тут выжидал кончины московского святителя. Таким образом, в Русской церкви оказалось тогда три митрополита в одно время.
Святитель Алексей, достигши глубокой старости, ввиду приближавшейся кончины желал иметь своим преемником подобного себе русского подвижника и патриота, игумена Сергия Радонежского. Но пора нам рассказать, хотя вкратце, происхождение и жизнь этого игумена. Если политическую деятельность митрополита Алексея мы сравнили с Ришелье, то патриотические заслуги Сергия Радонежского дают ему значение русского аббата Сугерия.
Жил в Ростовской области некто боярин Кирилл со своей супругой Марией. Прежде они были знатны и богаты, а потом обеднели вследствие татарских разорений и тяжких даней в Орду, а также неурожаев и других несчастий. Когда же Ростовская область подверглась притеснениям от воевод, присланных Иваном Калитой, Кирилл и Мария покинули прежнее местожительство и переселились в городок Радонеж, лежавший в Московской области в уделе младшего сына Калиты Андрея. Вместе с ними сюда переселились и некоторые другие ростовские семьи, привлекаемые разными льготами и добрым управлением наместника Терентия Ртища. У Кирилла и Марии было три сына: Стефан, Варфоломей и Петр. Средний из них, Варфоломей (будущий игумен Сергий), родился около 1320 года; в детстве своем он не отличался большими способностями и, когда настало время учиться грамоте, отставал от своих братьев. Но потом терпением и трудом (а по словам жития, молитвой одного старца-инока) развил свой смысл и полюбил чтение священных книг. Вместе с благочестием у него возрастала охота к иноческой жизни. Братья его женились; Варфоломей же просил родителей отпустить его в монастырь. Не получая на то согласия, он только после их кончины исполнил свое заветное желание. Между тем старший брат Стефан, овдовев, сделался монахом Хотькова Покровского монастыря. Варфоломей передал младшему брату Петру все оставшееся после родителей имение и ушел к брату Стефану в Хотьков монастырь, лежавший неподалеку от Радонежа. В этом монастыре были погребены их родители Кирилл и Мария, перед смертью принявшие иноческий чин.
Варфоломей, жаждавший молитвенного уединения, упросил брата Стефана поискать с ним такое место, где можно было бы основать пустынножительство. После разных поисков в соседних лесах они нашли удобное место неподалеку от Хотькова, верстах в десяти или двенадцати от Радонежа, на овражистых берегах речки Кончуры, посреди глухого бора. Здесь они срубили келью и маленькую церковь, которая, с соизволения митрополита Феогноста, и была освящена во имя Живоначальной Троицы. Это происходило в начале княжения Симеона Гордого. В таком глухом, уединенном месте братья терпели крайний недостаток в пропитании и прочих предметах жизни. Старший, Стефан, недолго оставался тут и отправился в Москву, где и поступил в Богоявленский монастырь, что на Большом посаде (в Китай-городе). Тут он сдружился с иноком Алексеем, впоследствии знаменитым митрополитом, вместе с ним приобрел благоволение Феогноста и был потом поставлен игуменом Богоявленского монастыря. Великий князь Симеон Иванович сделал Стефана своим духовником; а примеру великого князя последовали его ближние бояре Василий Протасьевич Вельяминов с братом Федором и другие. Это придворное значение Стефана, конечно, не осталось без влияния на судьбу основанной им с братом отдаленной Троицкой обители и на будущие дружеские отношения Алексея митрополита с Сергием Радонежским.
Варфоломей оставался непоколебим в своем лесном уединении. Он принял иноческое пострижение с именем Сергия; изнурял свою плоть постом и непрерывными трудами, с терпением переносил все лишения и опасности от хищных зверей, ибо в том же лесу обитали многие волки и медведи. Одного медведя подвижник даже приручил к себе, разделяя с ним свою скудную пищу; для него он ежедневно отлагал хлеб на известном пне. Когда был недостаток в пище, святой сам терпел голод, но кормил медведя, который за то показывал ему привязанность. Прошло года два или три в таком уединении. Слух о пустынном подвижнике стал распространяться. К нему начали приходить иноки и проситься в сожительство. Волей-неволей он должен был согласиться на их просьбу. Собравшаяся братия построила себе кельи и начала отправлять ежедневную службу в церкви, но не литургию, так как не было священника. Наконец, по усиленной просьбе братии, Сергий согласился принять на себя сан священника и игумена. Для посвящения он отправился в Переяславль к епископу Афанасию Волынскому, который в то время управлял церковными делами за отсутствием митрополита Алексея, ездившего в Царьград. Епископ совершил посвящение Сергия. Как настоятель обители Сергий сильно напоминал св. Феодосия Печерского, которого житие, без сомнения, было ему известно и послужило для него образцом. Он, в свою очередь, также служил братии примером строгого воздержания и неутомимого труда; также исполнял сам все монастырские работы, то есть рубил дрова, носил воду, молол жито, сеял муку, пек просфоры, варил кутью; носил бедную одежду, покрытую заплатами; также строго наблюдал в обители благочестие, для чего ночью обходил кельи и если слышал веселые разговоры и смех, то наутро призывал к себе провинившихся и увещевал их, но обыкновенно без гнева и суровости, а тихими, кроткими словами. Хоть Сергий не отвергал никого из приходивших к нему, но всегда медлил пострижением, давая послушнику время испытать себя и привыкнуть к монастырскому житию.
Между тем начались приношения и вклады от разных христолюбцев; некоторые приходящие иноки отдавали в монастырь свое имущество. Обитель украсилась новым, более просторным, храмом и разными постройками. В окрестностях ее стали селиться многие крестьяне и обрабатывали землю. Из Москвы богомольцами, торговыми и служилыми людьми проложен был в Троицкую обитель торный путь, который отсюда направился и далее в старые северные города, Переяславль и Ростов. Слух о св. подвижнике и его монастыре достиг Царьграда, и патриарх Филофей прислал Сергию крест и схиму с грамотой, в которой советовал ему устроить в своей обители общежитие. Игумен, с благословения митрополита Алексея, исполнил желание патриарха. Все монастырское имущество составляло собственность братии; никто не мог иметь своего отдельного достояния. Учреждены были должности келаря, подкеларника, уставщика; распределены обязанности трапезников, поваров, хлебников, служителей больным. Кроме того, Сергий устроил при монастыре странноприимство, где получали пристанище нищие и убогие богомольцы. В это время, то есть в княжение Димитрия Ивановича, св. игумен уже пользовался большим уважением при великом княжеском дворе и особым расположением митрополита Алексея. Они совокупно заботились о распространении и процветании в России монашеского чина, и Троицкая обитель сделалась тогда митрополией или рассадником значительного числа севернорусских монастырей.
Упомянем только важнейшие из них.
Старший брат Сергия, Стефан, оставил свое игуменство в столичном Богоявленском монастыре и удалился в Троицкую обитель к меньшому брату. Но кажется, Стефан не отличался кротостью и смирением и неохотно подчинялся настоятельству меньшого брата в монастыре, которому основание они положили вместе. По крайней мере, однажды за вечерней, стоя на клиросе, Стефан по какому-то поводу спросил канонарха (уставщика): «Кто тебе велел взять эту книгу?» – «Игумен Сергий», – отвечал монах. «Кто тут игумен? Не я ли первый сел на это место и церковь воздвиг?» – возразил Стефан и прибавил к тому еще несколько запальчивых слов. Преподобный Сергий в то время священнодействовал в алтаре и слышал эти слова. После вечерни, когда братия собралась в трапезу на ужин, он, не сказав никому ни слова, ушел из монастыря. Обходив разные пустыни, Сергий остановился на реке Киржач и там, с помощью своих почитателей, основал новую обитель во имя Благовещения. Но потом, уступая просьбам троицкой братии и убеждениям митрополита Алексея, воротился в свой монастырь, а управление киржачским поручил одному из своих учеников.
В числе учеников Сергия находился его родной племянник Феодор, сын того же старшего брата Стефана. Этот Феодор с юных лет пристрастился к иноческому житию и, воспитанный под руководством дяди, подобно ему, пожелал основать собственный общежительный монастырь. Сергий не противился такому желанию и отпустил племянника с несколькими из своей братии. Они выбрали в окрестностях столицы красивое место на возвышенном берегу реки Москвы, называемое Симонова, с благословения Сергия, построили здесь церковь во имя Рождества Богородицы и при ней учредили монастырь, настоятелем которого сделался Феодор (около 1370 г.). Потому он приобрел такое уважение, что, подобно отцу своему, бывшему когда-то духовником великого князя Симеона, назначен в духовники великому князю Димитрию Ивановичу. Посланный однажды великим князем по церковным делам в Царьград, он так понравился патриарху, что был им возведен в сан архимандрита, а его монастырь объявлен патриаршей ставропигией (т. е. изъят из ведения епархиального архиерея). Впоследствии он был поставлен епископом на ростовскую кафедру.
Далее, по просьбе князя Владимира Андреевича, св. Сергий ходил в его удельный город Серпухов, в окрестностях которого и основал (в 1374 г.) Зачатейский монастырь, прозванный по своему местоположению Высоцким. Настоятелем его он поставил также одного из своих учеников. Вновь основанные монастыри Сергий обыкновенно посещал лично, благословлял и наставлял иноков, и все подобные путешествия совершал пешком; по замечанию его жития, он до глубокой старости никогда не ездил на коне. Сам митрополит Алексей обратился к пособию преподобного, когда устраивал новую обитель в исполнение своего обета. Однажды, во время плавания в Царырад, святитель испытал на море страшную бурю.
Ввиду крайней опасности он дал обет основать церковь и монастырь во имя того праздника, в который достигнет пристани. Корабль пристал к берегу 16 августа, то есть в праздник нерукотворенного Спасова образа. По просьбе святителя, Сергий дал ему достойнейшего из своих учеников Андроника, и этот последний сделан был настоятелем основанного митрополитом на берегу Яузы монастыря, который стал известен под именем Спасо-Андроникова. Но наибольшими попечениями митрополита Алексея пользовался другой основанный им общежительный монастырь, Чудов, построенный в самом Кремле близ Успенского собора (в 1365 г.). Название свое он получил от каменного храма в честь чуда Михаила Архангела. В число первоначальной его братии также переведены были некоторые старцы из Троицкой лавры. Святитель возвел этот монастырь в достоинство архимандрии и щедро наделил его селами и разными угодьями28.
Тщетно престарелый святитель предлагал троицкому игумну быть ему преемником на Русской митрополии, для чего хотел предварительно возвести его в сан епископа. Преподобный Сергий решительно отказался от этой великой чести, главным образом по своему смирению и любви к пустынному житию, а отчасти, вероятно, и потому, что хорошо знал о желании великого князя возвести на митрополичью кафедру своего любимца Митяя. Этот Митяй родом был с рязанского прибрежья Оки, из города Тешилова, сын священника, и некоторое время служил священником в городе Коломне. Тут он имел случай обратить на себя внимание великого князя Димитрия. Митяй отличался высоким ростом, окладистой бородой и вообще сановитой, красивой наружностью. Будучи наделен от природы прекрасным голосом, даром слова и обладая начитанностью в Священном Писании, он умел пленить великого князя как приятностью своего церковного служения, так и сладкой, поучительной беседой. Димитрий взял его к себе духовником и печатником, то есть поручил ему хранить и прикладывать к грамотам великокняжескую печать. Многие бояре, по обычаю, подражали государю и также поступили в число духовных детей попа Митяя. Он все более входил в честь и славу; вместе с тем росли его властолюбие и надменность; он стал щеголять дорогими светлыми одеждами и многочисленной прислугой. Когда умер Иван Непеица, архимандрит придворного Спасского монастыря, великий князь велел поставить на его место своего любимца. Чудовский архимандрит Елисей, прозванный Чечетка, совершил пострижение Митяя, нарекши его Михаилом (1476). «Еще до обедни был мирской поп, а после обедни архимандрит», – говорили современники о таком быстром возвышении. Но Спасская архимандрия служила только ступенью к самому высшему духовному сану, который назначал ему великий князь. Митрополит Алексей приближался к своей кончине, и Димитрий неоднократно просил его благословить в свои преемники архимандрита Михаила. Алексей ссылался на то, что Митяй еще новичок в монашестве и что ему прежде нужно искуситься в подвигах иноческих. То лично, то через брата Владимира Андреевича или ближних бояр Димитрий повторял свою просьбу о благословении. Алексей наконец согласился преподать Митяю благословение, сказав при этом: «Если будет на то воля Господня и Пречистой Богородицы, преосвященного патриарха и вселенского собора, то и я благословлю его».
Вскоре потом восьмидесятилетний святитель отошел в вечность и, согласно с его желанием, был погребен не в Успенском соборе, а в своем любимом Пудовом монастыре. Митяй немедленно переселился на митрополичий двор и принял в свое ведение дела церковные. В это время цареградский патриарх Макарий, желая угодить сильному русскому князю, прислал Митяю грамоты, в которых признавал его преемником Алексея и звал в Константинополь для рукоположения. Вследствие того Митяй счел себя вправе, еще не будучи поставлен, возлагать на себя белый клобук и митрополичью мантию, восседать во время богослужения в алтаре на митрополичьем месте, вообще окружить себя всем блеском этого сана; ему служили и сопровождали его при выходах многочисленные митрополичьи бояре и отроки. Он чинил церковные суды и собирал в свою казну митрополичьи доходы. С духовенством обходился гордо и строго, а провинившихся и непокорных сурово наказывал, причем многих сажал в темницу и смирял железными веригами. Его гордость и суровость не замедлили возбудить против него великое неудовольствие в русском духовенстве.
Во главе недовольных стояли епископ Суздальский Дионисий и два известных игумена, преподобный Сергий Троицкий со своим племянником Феодором Симоновским; они вошли в сношение с помянутым выше сербом Киприаном, который проживал в Киеве и управлял церковными делами Западной Руси. Он с большой свитой отправился в Москву, чтобы предъявить свои права на митрополичий престол всея Руси. Великий князь видел в нем не только соперника своему любимцу, но также избранника и сторонника враждебной Литвы. А потому едва Киприан явился в Москву, как его схватили и заключили под стражу; у его свиты отняли коней и все имущество; а на другой день выпроводили его с бесчестьем из Москвы. В этом случае московский князь поступил с Киприаном точно так же, как однажды Ольгерд обошелся с митрополитом Алексеем, когда тот посетил свою паству в Юго-Западной Руси. Киприан прислал с дороги скорбное послание к игумену Сергию и Феодору, где описал причиненное ему оскорбление. Он отправился со своими жалобами в Византию. Между тем Митяй вздумал было избавить себя от путешествия в Царьград, где сторонник его патриарх Макарий был свержен духовным собором. Он склонил великого князя созвать собор русских епископов, который поставил бы его, Митяя, в митрополиты, следуя некоторым прежним примерам на Руси (митрополитов Илариона и Климента). Но против такого поставления, не согласного с установившимся преданием, восстал Дионисий Суздальский, который притом не хотел явиться к Митяю с поклоном и за благословлением, как то сделали другие, собравшиеся в Москву, епископы. На укор Митяя по сему поводу Дионисий отвечал: «Тебе следовало прийти ко мне за благословением; ибо я епископ, а ты поп». По просьбе Митяя великий князь велел задержать Дионисия, когда тот собрался было ехать в Константинополь. Дионисий дал слово не ездить туда без воли великого князя, в чем представил поручителем за себя Сергия Радонежского. Но, получив свободу, нарушил слово и из Нижнего Новгорода Волгой поехал в Грецию. Раздраженный Митяй обратил свой гнев на преподобного Сергия, грозил разорить его монастырь и разогнать иноков. Он уже давно питал неудовольствие на троицкого игумена, считая его виновником тому, что святитель Алексей не хотел благословить его, Митяя, своим преемником.
Ввиду возникших несогласий Митяй, по желанию великого князя, отправился наконец в Царьград на поставление, в сопровождении большой свиты, в состав которой входили три архимандрита, несколько игуменов, протоиереев и почти весь клир соборной Владимирской церкви. Кроме митрополичьих бояр, при этой свите находился великокняжеский посол, большой московский боярин Василий Кочевии-Олешинский. Сам великий князь с детьми и боярами провожал своего любимца несколько переходов от столицы. Он не только снабдил его денежной казной, но еще дал ему несколько чистых грамот за своей печатью (бланки), чтобы в случае надобности он мог в Царьграде занимать деньги под великокняжескую кабалу (вексель). Митяй отправился через Рязанскую землю и Донские степи; в последних он был задержан татарами Мамаевой Орды, но вскоре с честью отпущен самим Мамаем. В генуэзском городе Кафе (Феодосии) он сел на корабль и поплыл в Константинополь. Но на море Митяй разболелся и умер в виду самого Царьграда. Его погребли в константинопольском предместье Галате.
Сие путешествие разрешилось еще более неожиданным образом, когда спутники Митяя самовольно вздумали, вместо умершего, выбрать нового митрополита из своей среды. При этом голоса разделились: одни желали Ивана, архимандрита московского Петровского монастыря, а другие Пимена, архимандрита Переяславского. После многих споров одержала верх сторона последнего, к которому пристали великокняжеский посол и бояре. Завладев казной Митяя, Пимен воспользовался чистыми грамотами за княжескими печатями и на одной из них написал от имени Димитрия послание к императору Иоанну Палеологу и патриарху Нилу с просьбой поставить его, Пимена, русским митрополитом.
Когда же встретились препятствия и сомнения со стороны Цареградского духовного собора, перед которыми хлопотал о своих правах Киприан, Пимен и его пособники воспользовались другими чистыми грамотами и на имя великого князя заняли большие суммы под высокие проценты у итальянских и других купцов. С помощью богатых даров и посулов их старания увенчались успехом: в июле 1380 года состоялось соборное постановление, в силу которого Киприан поставлен митрополитом Литвы и Малой России, а Пимен рукоположен в митрополита Киева и Великой России. Но когда последний прибыл в Северную Русь и приближался к Москве, великий князь Димитрий велел его схватить, снять с него белый клобук и послать на заточение в Пухлому. В Москве приняли на митрополию Киприана29.
Прежде нежели решился этот спор между Киприаном и Пименом, в Северо-Восточной Руси совершились великие политические события: началась освободительная борьба Москвы с Золотой Ордой.
Неурядицы, продолжавшиеся в Орде, и ее раздробление между несколькими ханами-соперниками служили очевидным поощрением в попытках русских князей к свержению ненавистного ига. Мы видим, что северо-восточные князья в это время начинают довольно сильно действовать против татар в явном союзе друг с другом. Душой этого естественным путем слагавшегося союза, конечно, является Москва, то есть великий князь Димитрий Иванович и его умные бояре. К московскому князю непосредственно примыкают его ближайшие подручники или младшие удельные князья Суздальской земли, каковы ростовские, ярославские, белозерские и прочие. Затем в тесном союзе с Москвой мы видим старшего суздальско-нижегородского князя и тестя великого Димитрия Константиновича с братом Борисом Городецким. Только тверской князь Михаил Александрович выделялся из союза суздальских и великорусских владетелей и продолжал упорствовать в своей вражде с Москвой. Но зато великий князь умел привлечь в союз против татар старую соперницу Москвы с юго-восточной стороны, то есть Рязань, в лице ее главного князя Олега Ивановича, не говоря уже о послушных Москве князьях Муромских и Пронских. Союз с Рязанью был особенно важен, потому что она загораживала собой Московское княжение от татарских нашествий, а в противном случае открывала татарам путь в самое сердце Великой Руси. Наконец, к Москве, как мы знаем, тянули удельные князья земли вятичей (потомки св. Михаила Черниговского), каковы карачевские, козельские, новосильские, тарусские и другие, теснимые с одной стороны Литвой, с другой – разоряемые татарами. При Димитрии Ивановиче они являются усердными его союзниками. Огражденная от непосредственного соседства с татарами широким полукругом союзных земель Нижегородской, Муромо-Рязанской и Северской, Москва могла постепенно и своевременно развивать и подготовлять свои силы для решительной борьбы с Ордой. Из своего средоточия она могла направлять помощь в ту или другую сторону для отпора кочевым варварам. К сожалению, помощь эта не всегда поспевала вовремя, чтобы предупредить разрушительный набег степных наездников на союзную область, и это обстоятельство значительно ослабляло крепость самого союза. Так, в 1373 году, по свидетельству летописи, татары из Мамаевой Орды напали на рязанского князя Олега Ивановича, разорили и пожгли его города и увели в плен много народу. Великий князь Димитрий с братом Владимиром Андреевичем пришел на помощь слишком поздно; он ограничился тем, что стал на берегу Оки и не пустил татар перейти на северную сторону. Почти в то же время видим смелое действие против татар в Нижнем Новгороде. Граждане подняли мятеж против Мамаевых послов и их грабительной дружины; причем избили до тысячи татар, а остальную их дружину, вместе с главным послом Сарайкой, заперли под стражу. В следующем, 1375 году, когда князь Димитрий Константинович велел развести пленную татарскую дружину по разным городам, Сарайко убежал на владычен двор, поджег его и стал там защищаться. Одна татарская стрела при этом едва не попала в епископа Дионисия и коснулась его мантии. Рассвирепевший народ избил всех татар вместе с Сарайкой. И это избиение, подобное тверскому 1327 года, на первое время осталось безнаказанным для жителей Нижнего. Присланное Мамаем вслед войско ограничилось опустошением Запьянья, то есть области за рекой Пьяной или восточного пограничья Нижегородского княжения.
В это-то время закончилась упорная борьба Димитрия Московского с Михаилом Тверским. Мирный договор 1375 года развязал руки Димитрию для более решительных действий на юго-востоке. И уже в следующем году мы видим зимний поход соединенного московско-суздальского войска в Камскую Болгарию на местных татарских владетелей. Князья, конечно, пользовались тем, что эти владетели, как и некоторые другие, старались отделиться от Золотой Орды и основать независимое ханство. В этом походе суздальской ратью начальствовали сыновья Димитрия Константиновича Василий и Иван, а московской – служилый князь Димитрий Михайлович Волынский-Боброк. 16 марта, в понедельник, на шестой неделе Великого поста соединенная рать подступила к городу Казани (впервые тут упоминающейся), где основал свою резиденцию болгаро-татарский хан Асан. Туземцы вышли навстречу русским и начали осыпать их стрелами из луков и самострелов; в то же время с городских стен на них «пускали» какой-то гром, чтобы напугать воинов; а некоторые выехали на верблюдах, стараясь всполошить их коней. Но Русь бодро ударила на неприятеля и вогнала их обратно в город. Затем она принялась опустошать окрестную сторону, забирала пленников, пожгла их суда на Оке, сёла и зимовники. Казанский хан Асан и царевич (салтан) Махмет ударили челом о мире и получили его, заплатив окупу три тысячи рублей на воевод и войско да по тысяче рублей великому князю и его тестю Димитрию Константиновичу. Кроме того, Русь посадила в Казани своего дорогу (представителя владетеля) с таможенными сборщиками. Следовательно, туземные владетели признали себя в зависимости от русского великого князя. Ободряемые подобными успехами, русские князья и в других областях начинают отважно выступать на борьбу с татарами. Так, на Северской украйне в это время отличился своими воинскими подвигами один из карачевских князей Федор Андреянович Звенигородский, по словам летописи, богатырь ростом и силой.
Неустройства Золотой Орды, жестокий мор и другие соседи отвлекли внимание татар от Руси. Однако темник Мамай, распоряжавшийся в Орде именем послушных ему ханов, замыслил рядом решительных ударов одного за другим смирить непокорных русских князей. В то время к нему перешел из Заяицкой или Синей Орды царевич Арапша (Араб-шах), малый телом, но искусный и свирепый воитель. Мамай дал ему войско и послал на Суздальско-Нижегородское княжество весной 1377 года. Извещенный о том своим тестем, Димитрий Московский сам пришел к нему на помощь с сильной ратью. Побыв некоторое время в Нижнем и не получая вестей об Арапше, великий князь воротился в Москву, оставив своему тестю значительную часть рати. Соединясь с суздальским ополчением, эта рать пошла отыскивать татар и перешла за реку Пьяну (приток Суры) в Мордовский край. Главное начальство было вручено сыну Димитрия Константиновича Ивану. Тут получилась ложная весть, что Арапша остановился где-то далеко на Волчьих водах и что он страшится встречи с русью.
Полагаясь на подобные вести, воеводы предались беспечности. Стояла жаркая июльская погода. Воины сложили на телеги свои брони, щиты и шлемы и расхаживали в охабнях и сарафанах; всадники, расстегнув петли, ездили нараспашку и даже спускали с плеч кафтаны. Рогатины, сулицы и копья сложены были в кучи, а иные даже не были еще насажены. Захватив где-нибудь у жителей пиво и мед, напивались допьяна и в таком виде предавались безмерному хвастовству; каждый хвалился один выйти на сто татаринов; «Кто может против нас стати?» – восклицали ратники. Бояре и воеводы сами подавали пример распущенности и, забыв о мерах воинской предосторожности, потешались охотой на зверей, как будто находились у себя дома посреди глубокого мира. Очевидно, несколько успешных действий против татар до такой степени ободрили русских, что они быстро перешли к пренебрежению относительно своих поработителей. Наказание за такое легкомыслие не замедлило. Арапша был недалеко и знал, что делается в русском стане. Мстительные мордовские старшины подвели его скрытыми дорогами. Царевич разделил свое войско на пять полков, которые 2 августа внезапно, с разных сторон, ударили на русскую рать. Застигнутая ими рать, бросившаяся бежать обратно за Пьяну, потонула в этой реке. Много бояр и воевод погибло в тот день; в числе погибших был и главный начальник ополчения, молодой князь Иван Димитриевич, который вслед за другими хотел на коне переплыть реку, но утонул. Арапша после этой победы поспешил к Нижнему Новгороду. При его приближении князь Димитрий Константинович, лишившись своего войска, не думал более о сопротивлении и ускакал в Суздаль; а часть граждан бросилась на суда и спаслась Волгой в Городец. Татары ворвались в беззащитный Нижний Новгород, захватили оставшихся людей, разграбили город, церкви, монастыри и, зажегши их, ушли с огромным полоном и всякого рода добычей. Примеру татар последовала и мордва; она собралась, внезапно ударила на область Нижегородскую и разграбила то, что осталось от погрома Арапши. Когда Димитрий Константинович успел восстановить некоторый порядок в своем княжении и собрал новую рать, то первым делом русских князей была месть коварной мордве. Суздальская рать, под начальством Бориса Константиновича Городецкого и Семена, одного из сыновей Димитрия Константиновича, соединилась с московским воеводой Федором Андреевичем Свиблом и следующей зимой жестоко повоевала мордовские волости; причем ограбила и пожгла их села и зимницы и увела в плен большое количество женщин и детей. Многие мордвины, приведенные живыми в Нижний, были подвергнуты разным казням; между прочим их влачили по льду на Волге и травили псами. (Утонувший в Пьяне княжич Иван был вынут из воды и погребен в нижегородском Спасском соборе еще в августе, т. е. вскоре по уходе Арапши.)