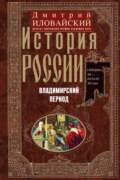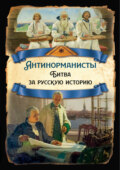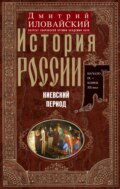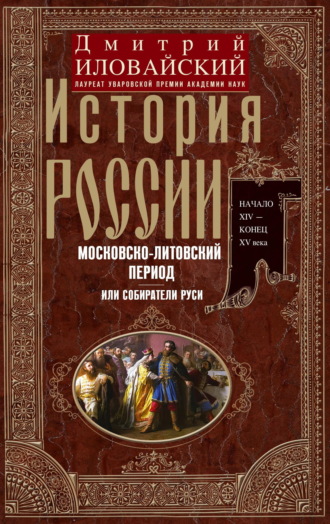
Дмитрий Иванович Иловайский
История России. Московско-литовский период, или Собиратели Руси. Начало XIV – конец XV века
Героем такой долгой, непрерывной борьбы с немцами явился Кейстут Гедиминович, князь пограничных с ними литовских областей. История этой борьбы украшена его личными подвигами и даже чудесными приключениями. Так, однажды Кейстут попал в засаду и был взят в плен. Его с торжеством привезли в Мариенбург и заключили в замке (1361). Но тут приставленным к нему слугой оказался крещеный литвин Альф. В последнем, при виде литовского героя и в разговорах с ним, пробудилась любовь к родине, и он помог бегству пленника. Заметив в стене своей камеры какое-то отверстие, Кейстут постарался его расширить; повешенный на стене ковер скрывал это отверстие от глаз посторонних, а куски камня и штукатурки слуга тщательно выносил вон. Однажды ночью Альф принес Кейстуту белый рыцарский плащ с нашитым на нем черным крестом. Они пролезли в отверстие, спустились со стены, сели на лошадей самого великого командора, и, никем не остановленные, выехали из замка. Дорогой повстречался им один рыцарь; не узнав Кейстута, он обменялся с ним обычным между орденскими братьями приветствием. Затем Кейстут, бросив коней, пробирался только по ночам, а днем укрывался в лесных и болотистых местах. Так он достиг Мазовии, где отдохнул у своего зятя, князя Януша, и потом благополучно воротился на родину. Вскоре затем Кейстут, во время одной битвы, снова попал в плен, но ему удалось как-то немедленно ускользнуть из неприятельского лагеря.
Самый брак литовского героя с любимейшей его женой Бирутой предание украшает романтическими обстоятельствами. На песчаном холме морского берега (близ гавани Полонги) в сосновом бору находилось святилище богини Прауримы, в котором пылал огонь, постоянно поддерживаемый девственными жрицами, или вайделот-ками. В числе этих жриц была дочь одного знатного жмудина, красавица Бирута. Услыхав о ней, Кейстут пожелал ее видеть и однажды, возвращаясь из похода в Пруссию, заехал в Полонгу. Плененный красотой и разумом Бируты, он вознамерился вступить с нею в брак. Но жрица отказала, ссылаясь на свой обет девства. Тогда Кейстут насильно увез ее к себе в Троки и женился на ней. В числе детей, рожденных ему Бирутой, был знаменитый впоследствии Витовт19.
Неустанная борьба Кейстута на севере и западе против крестоносцев хотя и требовала иногда присутствия и помощи со стороны его брата великого князя Ольгерда, но вообще она оставляла последнему свободные руки для деятельности на востоке и юге, чтобы продолжать дело подчинения соседних русских земель литовскому верховенству. Если при Гедимине на этом поприще Литва еще могла избежать столкновения с Москвой, то при Ольгерде, идя в том же направлении, она неизбежно должна была встретиться со своей соперницей по собиранию Руси. Прежде всего, повод к этому соперничеству подавал Новгород Великий, который еще при Гедимине начал искать союза с Литвой в отпоре властолюбивым и корыстолюбивым притязаниям московских князей. Симеон Гордый, как мы видели, заставил новгородцев смириться перед Москвой (1345). После того Ольгерд идет войной на Новгород, под маловажным предлогом, что посадник (Остафий Дворянинцев) обругал его псом. Поход этот повлек опустошение некоторых новгородских волостей и окончился миром, который, вероятно, снова восстановил в Новгороде униженную литовскую партию. Большее влияние Ольгерд оказывал на ближайшую к себе Псковскую область, благодаря стремлению псковитян обособиться от Новгорода и их нужде в помощи против ливонских немцев; вследствие чего псковичи нередко принимают к себе князя или наместника из Литвы. Так Ольгерд дал им в князья своего сына Андрея, удельного князя Полоцкого, крещенного по православному обряду.
Еще большее влияние возымел Ольгерд на другую соседнюю русскую область, Смоленскую.
Когда-то лежавшее в средине русских земель и наименее подверженное внешним опасностям, Смоленское княжество очутилось теперь в самом невыгодном положении между двумя соперницами по собиранию Руси. Не имея достаточно сил отстоять свою самобытность, оно поневоле должно было выбирать между той или другой зависимостью, хотя и пыталось противопоставить их друг другу. Прежде всего Смоленское княжение испытывало на себе тяжелую руку Москвы: в княжение Александра Глебовича (племянника Федора Ростиславича Черного) московский князь Юрий Данилович отнял у смольнян можайские уезды. Это обстоятельство повлекло за собой сближение смоленских князей с литовскими. Гедимин был их союзником, хотя еще не решительным; а Ольгерд уже явно выступил их защитником против дальнейших московских захватов, и, как мы видели, одними переговорами ему удалось в 1352 году остановить поход Симеона Гордого на Смоленск. Но подобные услуги оказывались, конечно, не даром: они ставили Смоленск в прямую зависимость от Литвы; чтобы упрочить эту зависимость, Ольгерд захватил смоленский пригород на Волге Ржеву, важный по своему положению на границе с владениями московскими и тверскими (1355). Тогда смоленский великий князь Иван Александрович (сын Александра Глебовича) попытался было освободиться от литовской зависимости в союзе с Москвой и Тверью. Но Симеона Гордого уже не было в живых, а преемник его Иван Иванович не отличался решительным характером. Ольгерд отнял у смольнян еще некоторые пригороды (Белую, Мстиславль) и заставил их смириться. Преемник Ивана Александровича, смоленский князь Святослав Иванович (1359–1386), уже является подручником великого князя Литовского, так что соединяется с ним в походах на Москву и посылает свои дружины ему на помощь против крестоносцев. Таким образом, в соперничестве между Москвой и Литвой, как мы видим, Новгород с самого начала клонится более на сторону московской зависимости, а Смоленск – на сторону литовской. Последнему обстоятельству немало способствовали естественное тяготение и промышленные условия, именно тесные, исконные связи смоленских кривичей с витебскими и полоцкими и один общий торговый путь с верхнего Днепра волоком и Западной Двиной к немецким и варяжским городам. А этот путь со всеми двинскими кривичами уже находился во власти литовско-полоцких князей.
Если великое княжение Смоленское еще на время отсрочит потерю своей самобытности, то земля Чернигово-Северская уже при Ольгерде вошла в состав западной собирательницы Руси, то есть Литвы. Известно, что эта земля во время татарского ига раздробилась на мелкие уделы между потомками Михаила Всеволодовича; их ожесточенные взаимные распри за волости и соседство хищных татарских орд совершенно обессилили Чернигово-Северскую землю. Уже в XIII веке она подвергается литовским набегам, а смоленские князья пытаются захватить в свои руки ее соседние волости. Из среды чернигово-северских уделов в то время наиболее значительным является Брянск, лежавший на границах Северянской земли с вятичами. Доблестный брянский князь Роман Михайлович был последним достойным представителем энергичного племени черниговских Ольговичей. После него смоленским князьям удалось действительно завладеть Брянским уделом, конечно с соизволения Золотой Орды. Затем отрывочные известия русских летописей указывают нам на частые смуты: новые князья отнимают Брянск друг у друга; городское вече иногда поднимает мятеж. Так, в 1341 году брянские вечники убили своего князя Глеба Святославича (двоюродный брат Ивана Александровича Смоленского). Лет пятнадцать спустя летописи упоминают о кончине брянского князя Василия и последовавших за нею великих смутах от лихих людей («замятия велия и опустение града»). Этими неурядицами ловко воспользовался Ольгерд, уже давно стороживший добычу и еще прежде нападавший на Брянск; на этот раз захват Брянской волости, вероятно, обошелся ему без особого усилия. Затем ему уже легко было завладеть другими более мелкими уделами чернигово-северскими. Важнейшие города он роздал в уделы сыновьям, а именно: Чернигов и Трубчевск – Дмитрию, Брянск и Новгород-Северский – Корибуту; а племяннику Патрикию Наримонтовичу, по-видимому, предоставил Стародуб-Северский. Но города, принадлежавшие собственно земле вятичей, оставались пока в руках местных русских князей, Козельских, Новосильских, Одоевских, Тарусских, Воротынских, Белевских, Елецких и прочих. Эти мелкие князья, конечно, должны были выбирать между московской и литовской зависимостью и находились пока между ними в неопределенном положении; но они очевидно более тянули к Восточной Руси, то есть к Москве. Сама Брянская область, по некоторым признакам, тянула туда же; только благодаря ранней кончине Симеона Гордого и нерешительности его преемника, а также смутам, наступившим в Орде по смерти Джанибека, удалось Ольгерду беспрепятственно завладеть Северней и Брянским уделом20.
Открытое столкновение двух соперниц-собирателей Руси сделалось неизбежно, когда на московском столе явился энергичный деятель в лице возмужавшего великого князя Дмитрия Ивановича. Поводом к такому столкновению послужила борьба Твери с Москвой; причем Ольгерд, женатый во втором браке на тверской княжне Юлиане Александровне, явился союзником тверских князей. Война Ольгерда с Дмитрием, однако, не имела решительного характера и только на время поддержала тверскую самобытность (об этих отношениях скажем после).
Вся Северная Русь с самого начала оказывала явное тяготение к Москве. Между тем Русь Южная, угнетаемая непосредственно татарскими ордами, легко склонялась к литовскому господству. Почти одновременно с Чернигово-Северской украйной на левой стороне Днепра Ольгерд завладел Киево-Подольской украйной на правой его стороне, также отняв ее у татар. Уже при Гедимине Киевская область, по-видимому, находилась в полузависимости от Литвы. Ольгерд в начале своего княжения действовал осторожно со стороны татар, избегал решительных столкновений с Золотой Ордой и даже предлагал Джанибеку свой союз в 1349 году. Но Симеон Гордый сумел расстроить заключение этого направленного против Москвы союза, так что Джанибек даже выдал ему литовских послов. После Джанибека, когда наступил смутный период в Золотой Орде, Ольгерд начал действовать решительно; он окончательно присоединил к своим владениям Киевское княжение и отдал Киев в удел одному из своих сыновей (Владимиру). В то же время он покорил земли между Бугом и Днепром. Северная часть этих земель принадлежала прежде галицко-волынским князьям и называлась Понизовьем, а теперь сделалась известна под именем Подолья (в тесном смысле). Здесь собирали дани татарские баскаки и темники, властвовавшие в соседних днепровско-бутских степях. В Подолье было много селений и несколько городов (Бакота, Ушица, Каменец и др.), разоренные укрепления которых татары не позволяли возобновлять. Страна эта во время монгольского ига не подчинялась никакому русскому княжескому роду, а была разделена на мелкие волости; во главе их были поставлены атаманы, которые, между прочим, занимались сбором дани для татар. И прежде соседние с Подольем татарские темники и князья нередко играли роль особых ханов, благодаря своему отдаленному от Сарая положению; а теперь, во время неурядиц и раздробления Золотой Орды, они были предоставлены собственным силам. Ольгерд нередко вступал с ними в отдельные союзы и нанимал у них вспомогательные войска для своих походов на поляков и крестоносцев. Но так как это были ненадежные союзники, переходившие иногда на сторону его врагов, то великий князь Литовский воспользовался помянутым смутным временем в Золотой Орде, когда заднепровские улусы не могли ожидать никакой помощи с Волги. Он начал с ними успешную войну; одержал большую победу на Синих водах (приток Бута) над тремя татарскими князьями, Кутлубеем, Хаджибеем и каким-то, по-видимому, крещеным Дмитрием (около 1362 г.), а затем очистил от их господства всю Подолию и соседние южные степи между Днепром и Днестром. Остатки разбитой Орды удалились отчасти на нижний Дунай в Добруджу, а отчасти в Крым. Так легко обошлось ему покорение этой обширной страны. Подольскую область он предоставил в удел своим племянникам, сыновьям Кориата Гедиминовича; первой их заботой была постройка крепких замков и возобновление старых городских укреплений, чтобы обезопасить страну от будущих татарских нападений. Предосторожность вполне разумная, ибо золотоордынские ханы нисколько не думали отказываться от своих притязаний на Подолье и заднепровские степи21.
Не так легка для литовских князей была борьба с поляками за галицко-волынское наследство.
Выше мы видели, что внук знаменитого Даниила Романовича Юрий Львович в начале XIV века, по праву наследства, соединил в своих руках княжества Галицкое и Волынское, следовательно, почти всю Юго-Западную Русь. То, что в Северо-Восточной Руси явилось плодом долгих усилий целого рода князей московского дома, то есть собрание разрозненных русских земель, здесь, на Юго-Западе, совершилось как бы само собой и не один раз. Можно было надеяться, что дело князя Романа и его сына короля Даниила – создание сильного Галицко-Волынского государства – наконец увенчается успехом: одновременно с Владимиром-Клязьминским и Москвой разовьется другое, чисто русское, средоточие в противоположном углу Руси, то есть во Владимире-Волынском или во Львове-Галицком. Однако этого не случилось: ни люди, ни обстоятельства не соответствовали подобной задаче. Извне Юго-Западная Русь окружена была со всех сторон враждебными соседями, каковы угры, поляки, литва и татары, что при ее открытых, доступных границах представляло большую трудность для обороны. Внутри эта Русь не имела хорошо сплоченного и вполне однородного населения. Главные города ее уже тогда изобиловали разными иноплеменниками, особенно немцами и евреями, захватившими в свои руки значительную часть промышленности и торговли. После татарских погромов галицко-волынские князья слишком усердно и неразборчиво вызывали в свою землю колонистов из всех соседних стран. Эти колонисты, конечно, оставались чужды русскому патриотизму. Что касается до боярского сословия, то хотя мы не видим в Галиции повторения тех крамол, какие там происходили в первой половине XIII века, а на Волыни бояре даже отличались преданностью своим князьям, однако, по всем признакам, притязания и привычки этого сословия недалеко ушли от того времени и значительно стесняли княжескую власть.
Благодаря единению братьев Романовичей, Даниила и Василька, – единению, более или менее продолжавшемуся при их ближайших потомках, татарское иго никогда не могло прочно утвердиться в Юго-Западной Руси; чему способствовали и сама отдаленность ее от Золотой Орды, а также потребность татар в русской помощи против возрастающей силы Литвы. После Льва Даниловича и Владимира Васильковича Волынь и Галич, по-видимому, ограничивались легкой данью и более номинальной, нежели действительной зависимостью от татар. Но вместо сих последних на северных пределах Волынско-Галицкой Руси возникало Литовско-Русское государство с энергичным и предприимчивым родом во главе. А на западе трудами Локетка восстановлены были единство и сила Польши. При таких обстоятельствах Юго-Западная Русь требовала со своей стороны целого ряда даровитых, энергичных князей, подобных Роману и Даниилу. Вместо них, наоборот, мы видим во главе ее личности ничем не выдающиеся. А потом сам род Даниила внезапно прекращается и оставляет Юго-Западную Русь, так сказать, на жертву ее соседям.
Источники не дают нам почти никаких подробностей о Юрии I, после того как он сделался королем Галиции и князем Волыни. Знаем только, что в первый же год его правления ляхи отняли назад завоеванный его отцом город Люблин. По всему видно, что Юрий отличался миролюбием, и если имел какие столкновения с соседями, то весьма незначительные, так как достоверные источники о них не упоминают. Знаем еще, что, по примеру своего деда, он держался в особенности союза с Тевтонским орденом против великих князей Литовских. Юрий Львович, как мы видели выше, не остался равнодушен к тому, что глава Русской церкви покинул Южную Русь и переселился на север. Галицко-волынский князь попытался поставить на общерусскую митрополию своего собственного кандидата в лице игумена Петра или, по крайней мере, получить в его лице особого митрополита для Юго-Западной Руси. Но эта попытка, как известно, не имела успеха; митрополит Петр не только последовал примеру предшественника, то есть предпочел Северную Русь, но и поселился в самой Москве. Очевидно, были серьезные причины для такого предпочтения; новый митрополит, хотя и южанин родом, понял или, точнее, почувствовал, что не на юге возникал тогда прочный политический порядок, способный доставить Русской церкви надежное и достойное обеспечение.
На печатях своих Юрий Львович изображается восседающим на троне с короной на голове и скипетром в руке, с латинской надписью вокруг: Domini Georgi regis Russiae; на оборотной стороне виден всадник со щитом и знаменем, с надписью: Domini Georgi principis Lodimeriae («Принц Георг Лодийский»). Он скончался в 1316 году, оставив двух сыновей, Андрея и Льва, между которыми снова разделилась его держава: Галиция и Володимерия (т. е. большая часть Волыни, с городом Владимиром) досталась старшему, Андрею, а Луцкий удел младшему, Льву.
Неизвестно в точности, с кем из них воевал Гедимин, с отцом Юрием I или с названными сейчас его сыновьями. Дело заключается в том, что литовский князь, по некоторым признакам именно в 1316 году, присоединил к своим владениям отнятую у галицко-волынских князей Берестейскую область с частью бывшей Ятвяжской земли (впоследствии так называемую Подляхию). Но затем мы видим Андрея и Льва в мирных и даже дружеских отношениях не только с магистром Прусско-Тевтонского ордена, но и со своими соседями, государями Польши и Литвы. Владислав Локетек в письме своем к папе Иоанну XXII в 1324 году с прискорбием извещает о смерти обоих русских князей-братьев, которые при жизни своей служили для Польши защитой от татарских нападений. Родственные связи еще более скрепили эти дружеские отношения к соседям.
Со смертью Андрея и Льва прекратилось прямое мужское потомство Даниила Романовича. Ближайшим претендентом на их наследие выступил потомок его по женской линии, именно юный Болеслав Тройденович, сын мазовецкого князя Тройдена и Марии, дочери Юрия Львовича, следовательно, внук этого последнего. Кажется, он уже владел каким-то соседним русским уделом. Опасаясь смут и раздела земли между другими претендентами, бояре червонорусские согласились призвать на галицко-волынский престол Болеслава, но, как надобно полагать, под условием принять восточный обряд. Действительно, он является в Галиции уже православным и носит имя своего деда Юрия. Однако, по-видимому, не вдруг, а постепенно признали его галицкие и волынские города. Так, есть известие, что граждане Львова впустили его с дружиной в город только после того, как он присягнул соблюдать их старые права и обычаи и не расхищать сокровищ, хранившихся в княжьих замках.
От Юрия II дошло до нас несколько грамот, подтверждающих старые дружественные договоры с прусскими магистрами и сохранившихся на латинском языке. Они подписаны то во Львове, то в стольном Владимире (Lodomiria). В них Юрий титулует себя «Божией милостью» «прирожденным» князем или просто России или всея Малыя России. Но, по-видимому, бояре, призвавшие его на стол, заставили его поступиться частью княжеской власти в их пользу, и он княжил как бы под опекой высшего боярского совета или думы; по крайней мере, означенные грамоты писаны от имени князя и этих вельмож (barones). В числе их на первом месте видим однажды Феодора, епископа Галицкого; потом упоминаются: Димитрий Дядько (т. е. пестун князя), Хотько Яромирович и Василько Кудринович, дворские тиуны; Михаил Елизарович, воевода Бельзский; Бориско Кракула, воевода Львовский; Грицко Коссакович, воевода Перемышльский; Федор Отек, воевода Луцкий, Юрий Лысый и Александр Молдавии. Любопытно, что при Юрии II возобновилась попытка иметь для Юго-Западной Руси особого митрополита, каковым, с соизволения константинопольского патриарха и синода, на время явился названный выше галицкий епископ Феодор. Но из истории Москвы мы знаем, что потом патриарх отменил особую Галицкую митрополию.
Вступив в брак с одной из дочерей Гедимина, возмужав и утвердясь на галицком престоле, Юрий II, по всем признакам, пытался освободить себя от боярской опеки и действовать самовластно. Польское происхождение и католическое воспитание не замедлили сказаться в его измене православию. По настояниям своего старшего родственника Владислава Локетка (действовавшего по внушениям римского папы), легкомысленный Юрий-Болеслав возвратился в католичество. Он стал унижать русских вельмож, окружать себя немцами, поляками и чехами, которым раздавал высшие и наиболее доходные уряды, оказывал пренебрежение к Русской церкви, к народным обычаям и местным законам. Кроме того, он возбудил против себя негодование высокими поборами и налогами, а также своей крайней распущенностью и насилием над женщинами; причем не давал пощады женам и дочерям самих бояр. Не такие были галицкие бояре, чтобы терпеливо переносить как измену православию, так и подобные оскорбления. В их среде снова закипела крамола и составился заговор на жизнь князя. Ввиду окружавшей его иноземной дружины они не посмели напасть на него открыто, а воспользовались одним пиром, на котором поднесли Болеславу отравленный напиток. Говорят, отрава была так сильна, что тело несчастного князя разнесло на куски (в марте 1340 г.)22.
Тогда-то во всей силе выступил на историческую сцену вопрос о галицко-волынском наследстве.
Тут обнаружилась предусмотрительность Гедимина в деле родственных союзов. Один из его сыновей, Любарт, был женат на внучке Юрия I (по одним [сведениям], дочери Андрея, а по другим – Льва Юрьевича) и уже при Юрии II, по-видимому, владел Луцким уделом. Этот Любарт и выступил теперь ближайшим претендентом на упомянутое наследство, по крайней мере на Волынские земли. Но он встретил себе сильного, искусного соперника в своем зяте (муже своей сестры) польском короле Казимире Великом, сыне и преемнике Владислава Локетка. Был и еще один важный претендент, король Угорский. Известно, что угры предъявляли свои притязания на Галицию еще по пресечении потомства Володаря Ростиславича, и королевичи их не один раз сидели на галицком столе (Андрей и Коломан). Но Казимир в этом случае воспользовался родственными связями с королем Угорским Карлом Робертом, который был женат на его сестре (Елизавете). Польский король от своей супруги Анны Гедиминовны не имел детей, и с ним прекращалось мужское потомство Пястов. С согласия своих вельмож Казимир признал наследником польской короны своего племянника Людовика, то есть сына своей сестры Елизаветы и Карла Роберта. Этим самым устранялось соперничество угров в вопросе о галицком наследстве; ибо по смерти Казимира вся Польша, а следовательно, и вновь присоединенные к ней земли должны были перейти к Людовику Венгерскому.
Существовавшее издавна стремление поляков к захвату соседних русских земель в данную эпоху получило особую силу; с одной стороны, вследствие потери Балтийского Поморья, которое было отторгнуто у них Тевтонским орденом, а с другой – вследствие отчуждения Силезии, которая также делалась добычею германизации. Сокращенные в своих пределах, теснимые Прусским орденом, поляки, естественно, искали вознаграждения и расширения с другой стороны, то есть со стороны благодатных земель Галицкой и Волынской Руси, в дела которой они давно уже привыкли вмешиваться.
Если верить бытописателям, польский захват начался следующим образом: как только в Кракове была получена весть о смерти Болеслава-Юрия, Казимир, желая предупредить литовских князей, немедленно, то есть ранней весной 1340 года, выступил в поход с одной придворной конной дружиной и некоторой частью наскоро собранного войска. Опасаясь задержек и рассчитывая на внезапность своего появления, он обходил лежавшие на его пути крепкие замки и большие города, а пробирался лесами и окольными дорогами. Действительно, ему удалось застать врасплох стольный город Галиции Львов. Сначала он ворвался в предместье Св. Юрия и произвел избиение его жителей, пытавшихся обороняться, чем навел страх на самих горожан. Не приготовленные к долгой обороне, не имея для того ни достаточных припасов, ни военных средств, жители Львова спустя несколько дней сдались Казимиру на условиях, обеспечивающих им жизнь, имущество и веру. Король привел граждан к присяге на подданство и завладел теми княжьими сокровищами, которые хранились в двух городских замках, верхнем и нижнем. На первый раз он не оставил здесь гарнизона, потому что имел с собой слишком мало войска. Чтобы оборонять эти два обширных деревянных замка в случае народного возмущения, требовалась значительная сила. Поэтому король велел сжечь их стены, и прежде, нежели народ опомнился от нашествия и от пожара, Казимир со своей дружиной покинул город, увозя с собой захваченные сокровища, заключавшие много золота, серебра, в том числе драгоценные кресты, короны, сосуды, княжьи одежды, жемчужные украшения и прочее. Но он удалился для того, чтобы тем же летом воротиться в Галицию уже с большим войском. Тогда он занял своими гарнизонами, кроме Львова, и некоторые другие значительные города, которые или сдались ему добровольно, или покорены силой оружия (Перемышль, Любачев, Галич, Теребовль и др.). Таким образом, король захватил часть Галиции и Волыни. Источники упоминают при этом о некоторых вероломных действиях со стороны поляков. Так, будто бы польские вельможи, заманив перемышльских бояр на свидание под предлогом переговоров, изменнически напали на них и перебили, после чего захватили и сам Перемышль.
Казимиру при этом захвате русских земель помогли более всего наступившее в них безначалье, отсутствие какого-либо общего правительства и быстрота нападения. Но то, что далось так легко при первом натиске, пришлось отстаивать с большими усилиями и кровопролитием. Со стороны литовско-русских князей вначале не видно энергичного сопротивления польскому захвату; вероятно, тому помешали случившаяся вскоре смерть Гедимина и происшедшее в Литве разъединение между его сыновьями. Но тут выступили на сцену некоторые галицкие бояре и подняли восстание. Несоблюдение условий, на которых русские города сдавались королю, и его старание разными почестями и льготами привлекать русских людей к переходу в католичество скоро возбудили в народе негодование против поляков. Во главе восстания стали два знатных боярина: один из мелких удельных князей, владетель города Острога на Волыни, Данило (потомок удельных туровских князей и родоначальник князей Острожских) и помянутый выше пестун Болеслава-Юрия, Димитрий Дедко, который по смерти этого князя владел Перемышлем (может быть, полученным от Болеслава Тройденовича, которому он помог вокняжиться на Руси). Они призвали на помощь татар; последние все еще не покидали своих притязаний на Галицко-Волынскую землю, как на свою данницу, и с неудовольствием смотрели на ее захват поляками. Соединенным силам русских и татар удалось вытеснить поляков из некоторых галицких городов и распространить свои нападения вглубь самой Польши. Но когда татары с награбленной добычей ушли назад, восставшие русские бояре заключили с Казимиром новый договор, в силу которого они, по-видимому, признали некоторую зависимость Галицкой земли от польского короля, под условием сохранить им собственное управление этой землей. По крайней мере, Дмитрий Дедко после того называет себя князем и «наместником земли Русской», выдает от своего имени грамоты, обеспечивающие разные привилегии немецким купцам в городе Львове.
В то же время притязания короля на галицко-волынское наследие вызывали войну его с литовскими князьями Гедиминовичами. Первое столкновение с ними окончилось перемирием, заключенным около 1345 года. По этому перемирию за королем признавалось владение только Львовской землей; тогда как земля Владимирская, уделы Луцкий, Бельзский, Холмский, Берестейский и даже Кременец остались в руках литовских князей. Следовательно, перевес в борьбе оказался на стороне последних. Но вот в 1348 году литовские князья потерпели поражение от крестоносцев на берегах Стравы. Вскоре потом Казимир возобновил войну и быстрым нашествием во главе сильного войска захватил Владимир, Луцк, Берестье и некоторые другие важнейшие города Волыни и предложил Любарту довольствоваться Луцким уделом под верховной зависимостью от польского короля. Однако такая удача продолжалась недолго: литовские князья соединились и не только изгнали поляков из Волыни, но и произвели опустошения в коренных польских областях. Тогда папа Климент IV назначил Казимиру десятую часть церковных доходов с Польши для войны с литовскими язычниками и велел польским епископам проповедовать крестовый поход. В то же время Казимир получил помощь от своего племянника и наследника своей короны, угорского короля Людовика. Но Ольгерд, со своей стороны, заключил союз с татарскими ханами Подолья. Война с переменным успехом тянулась еще около пяти лет (до 1356 г.), и обе стороны, по-видимому, остались при прежних владениях. Спустя десять лет (в 1366 г.) война за галицко-волынское наследство возобновилась в третий раз и была вначале также удачна для Казимира. Но этот король умер, не докончив спора (в 1370 г.). Пользуясь временем междуцарствия в Польше, литовские князья снова успели отвоевать Волынь. Наконец уже в 1377 году, то есть незадолго до своей смерти, Ольгерд заключил мир с польско-угорским королем Людовиком. По этому миру Волынь, то есть Владимирский и Луцкий уделы, а также Берестейская область отошли к Литве, а Галиция, с присоединением уделов Холмского и Бельзского, осталась за Польшей. Король Людовик предоставил управление Галицией одному из силезских князей, Владиславу Опольскому, на правах удельного князя23.
Так, после многого кровопролития и взаимных разорений, решен был этот долгий спор за галицко-волынское наследство. Но ввиду последовавшего вскоре соединения Литвы с Польшей и само это кровопролитие, в сущности, оказалось бесполезным для той и другой стороны.
Тесные отношения литовской династии к западнорусским областям не могли не оказывать влияния на саму эту династию: она все более и более русела и крестилась по православному обряду. Если уже семейство Гедимина состояло отчасти из православных членов, то семейство Ольгерда почти сплошь было православное. Обе его супруги, первая княжна Витебская Мария и вторая княжна Тверская Юлиания, воспитывали своих детей в православии и, живя в Вильне, открыто исповедовали свою религию, имели при себе православных священников и воздвигали здесь храмы. Предание приписывает Марии построение в Вильне Пятницкой церкви (где она была потом погребена), а Юлиании сооружение каменной соборной церкви Св. Николая. Сам Ольгерд, по некоторым известиям, был также окрещен в своей молодости. По крайней мере, он был уже православным в то время, когда находился в браке с витебской княжной и занимал Витебское княжение. О том Русская летопись свидетельствует по следующему поводу. В 1342 году, по просьбе псковичей, Ольгерд ходил к ним на помощь против немцев и, когда немцы были прогнаны, псковичи просили Ольгерда креститься и сесть у них на княжение. Ольгерд отвечал: «Я уже крещен и есть христианин, а другой раз креститься не хочу». Вместо себя он предложил юного сына своего Вингольда, который, действительно, был немедленно окрещен в Пскове под именем Андрея и посажен там князем. Очевидно, без того всегда осторожный и скрытный, Ольгерд, из политических видов, скрывал от народа свою принадлежность к христианству; особенно он это делал в Вильне, чтобы не возбудить против себя литовских язычников или собственно языческих жрецов, еще сохранявших свое влияние на народ.