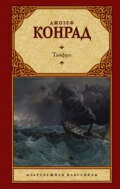Джозеф Конрад
Тайный агент
Он сказал, что жена его поехала в Бретань в умирающей матери, в страшно расстроенном состоянии, и что, стараясь утешить ее, он не заметил, как тронулся поезд. В ответ на общий вопрос, почему он лучше не доехал до Соутгамптона, чем рисковать жизнью, он ответил, что дома осталась с детьми молоденькая невестка, которая была бы вне себя от ужаса; он сказал также, что выскочил необдуманно, и, что, конечно, во второй раз такой глупости не сделал бы. Выйдя из вокзала, он не взял, однако, кеба, несмотря на то, что был богаче, чем когда-либо в жизни.
– Я лучше пройдусь, – сказал он с улыбкой предлагавшему свои услуги кэбмену.
Он долго, долго шел по улицам, скверам, площадям и, наконец, дошел до маленького мрачного с виду дома, перед которым расстилался маленький палисадник. Вынув из кармана ключ, он открыл дверь и вошел.
Он бросился, не раздеваясь, на кровать и пролежал с четверть часа. Потом он вдруг сел на кровать и, подняв колени, обхватил их руками. В таком виде он сидел до рассвета. Так же, как он умел блуждать часами, не выказывая усталости, так он умел и сидеть часами, не двигаясь. Когда в комнате стало совсем светло, он откинул голову на подушку. Глаза его обратились к потолку, потом вдруг закрылись. Товарищ Озипон заснул при ярком солнечном свете.
XIII.
В большой, чистой, но убогой с виду комнате, где единственным предметом был большой шкап, с огромным замком – шкап, купленный профессором по случаю за гроши, – сидел у деревянного стола подле окна товарищ Озипон, обхватив голову руками. Профессор, в грязном, поношенном пиджаке и в истоптанных туфлях, шагал по комнате, засунув руки в карманы, и рассказывал о своем посещении Михаэлиса.
– Он, конечно, и понятия не имел о смерти Верлока. Он ведь никогда не читает газет. Я вошел к нему. В доме ни души. А он один сидит и пишет, окруженный кипой бумаг. На столе стоял остаток завтрака – несколько сырых морковок и немного молока. Он только этим и питается. И при этом – ангельские чувства. Убогость мысли поразительная. Не умеет логически рассуждать. Биографию свою он разделил на три части, под заголовками: вера, надежда, жалость. И теперь он разрабатывает идею мира, устроенного как большой красивый госпиталь, с садами и цветами, в котором здоровые и сильные будут ухаживать за слабыми. Подумайте, какое безумие. Слабые – источник зла; их нужно истреблять – вот единственный путь прогресса. Прежде всего, нужно уничтожить всю толпу слабых, а потом недостаточно сильных. Поняли? Сначала слепых, глухих и немых, потом хромых и так дальше. Все слабости, все пороки должны исчезнуть.
– Что же останется? – спросил Озипон сдавленными голосом.
– Я останусь, я достаточно силен, – сказал маленький профессор, и его большие торчащие тонкие уши вдруг побагровели.
– Мало ли я страдал от слабых? – проговорил он. – И все-таки я сила, – продолжал он. – Дайте мне только время проявить себя.
– Пойдемте выпить пива со мною к Силенусу, – предложил Озипон, и профессор согласился. Надевая сапоги и готовясь в уходу, профессор стал спрашивать Озипона, почему он сделался таким мрачным?
– Что с вами? – спросил он. – Вы уж даже приходите развлечься ко мне. Говорят, что вас часто видят в кабаках. Что же это? Отказались от женщин? Или, может быть, какая-нибудь из ваших жертв убила себя? Или, быть может, вам мало ваших успехов? Только кровь прикладывает печать в величию и победе. Это показывает история.
– Оставьте глупости, – сказал Озипон, не поворачиваясь к нему.
– Почему? Ну, да вас-то, Озипон, я презираю: вы бы мухи не убили.
Они сели на империал омнибуса и поехали по длинным улицам, глядя на толпы людей у своих ног.
– Конечно, нелепо превращать мир в госпиталь, – сказал Озипон, – как мечтает Михаэлис. Но в будущем все-таки править миром будут доктора. Люди хотят одного: жить. Вот вы все требуете, чтобы вам дать время примирить себя. А еще считаете себя сильным, потому что имеете в кармане средства отправить и себя, и еще двадцать людей в вечность. Но вечность – бездна. А вам нужно время. А если вы встретите человека, который сможет дать вам наверное еще десять лет жизни, вы охотно признаете его власть.
– Я ничьей власти не признаю, – сказал профессор в то время, как они спускались с омнибуса.
– Подождите, пока будете лежать, не будучи в силах двигаться. Посмотрите, что тогда заговорите.
Они сели за маленький столик у Силенуса и продолжали начатый разговор.
– Смешное у вас представление о человечестве, – сказал профессор. – Точно оно постоянно показывает язык и глотает пилюли по предписанию нескольких шутников с серьезными лицами. Не стоит пророчествовать такой вздор.
Он отпил пива и стал думать о том, как трудно действительно истребить несчетное количество людей, живущих на свете. Шум разрывающихся бомб проходит незамеченным среди идущей своим чередом жизни.
Озипон вынул из кармана смятую газету. Профессор поднял голову.
– Что это за газета? Что в ней есть?
Озипон имел вид внезапно пробужденного лунатика.
– Ничего, совсем ничего. Газете уже десять дней. Я, верно, забыл ее в кармане.
Но он не бросил старую газету. Прежде чем положить ее обратно в карман, он быстро пробежал последние строчки какого-то сообщения. В них сообщалось именно следующее: «Непроницаемая тайна навсегда, по-видимому, окутала этот странный акт безумия или отчаяния». А заголовок сообщения был такой: «Самоубийство путешественницы при переправе через канал».
Товарищ Озипон глубоко задумался над словами «непроницаемая тайна». Для человечества это останется тайной, но для него тайна эта была совершенно ясной. Он отлично знал все обстоятельства, знал, что пароходный служащий заметил около полуночи даму всю в черном, стоящую у пристани перед отплытием; она стояла в нерешительности; он спросил, едет ли она с этим пароходом, и провел ее на пароход, видя, что она совершенно не знает сама, что ей делать. Затем, служительница при дамской каюте, видя, что она беспомощно стоит посреди каюты, уговорила ее прилечь. Дама в черном не произносила ни слова. Видно, было, что она удручена страшным горем. Потом ее заметили в кресле на палубе, сидевшую с широко раскрытыми глазами, и вид у неё был такой, что служащие на пароходе стали за нею наблюдать и решили, по приезде в Сен-Мало, обратиться к консулу и вызвать её родных из Англии. Затем пошли отдать приказание, чтобы снести ее с палубы вниз, потому что лицо у неё было как у умирающей. Но товарищ Озипон знал, что за этой маской отчаяния скрывалась отстаивавшая себя страстная жажда жизни. Это знал он, но не пароходные служители. Когда они вернулись через пять минут за странной дамой, её уже не было: она исчезла. Через час спустя, на месте, где она сидела, найдено было обручальное кольцо с выгравированной датой. «Непроницаемая тайна окутала навсегда»… Товарищ Озипон поднял свою красивую голову. Профессор поднялся, собираясь уходить, но Озипон его остановил.
– Подождите, – сказал он. – Скажите, что вы знаете о безумии и отчаянии?
Профессор провел кончиком языка по сухим тонким губам и сказал поучительным тоном:
– В наше время таких чувств не бывает. Безумие и отчаяние – сила. А люди стали теперь мелкими, слабыми и неспособны на сильную страсть. Сила – преступление в глазах слабых людей, управляющих миром. Вы все – мелкие. Вы сами – мелкий человек. И Верлок, делом которого полиция не сумела воспользоваться, тоже мелкий. Безумие и отчаяние! Дайте мне эти два рычага, Озипон, и я сдвину с места мир. Но вы все неспособны на то, что жирный буржуа называет преступлением. Силы нет у вас.
Он остановился и прибавил с иронической улыбкой:
– И я должен вам сказать, что маленькое наследство, которое вы, говорят, получили, не сделало вас умнее. Вот вы сидите за пивом, как автомат. Прощайте.
– Хотите, чтобы я отдал вам все наследство? – спросил вдруг Озипон, взглянув на своего собеседника с бессмысленной улыбкой.
Неподкупный профессор только улыбнулся. На нем было отрепанное платье, стоптанные сапоги, пропускавшие воду. Он сказал:
– Я вам пришлю завтра маленький счет за очень нужные мне завтра химические составы. Заплатите за них, пожалуйста.
Озипон медленно опустил голову. Он был один. В уме его вертелась одна фраза: «безумие или отчаяние?»
Механический рояль проиграл какой-то задорный вальс и потом смолк.
Товарищ Озипон, по прозвищу «доктор», вышел из пивной. Газета с известием о самоубийстве дамы на пароходе лежала у него в кармане.
Он шел по улице, не глядя, куда, и хотя у него назначено было свидание с какой-то женщиной, но он пошел как-раз в противоположном направлении. Ему было противно подумать о какой бы то ни было женщине. Все ему опротивело, – работа, еда, развлечения. Он перестал спать и мог только пить. Но пил он теперь с какой-то надеждой на близость конца… «Безумие или отчаяние?» – неотступно мелькало у него в мозгу. Он шел могучий, здоровый, владеющий состоянием, унаследованным от тайного агента Верлока, – и ничто его не спасало. В уме неотступно носилась одна единственная фраза: «отчаяние или безумие»…
А неподкупный профессор шел своим путем, не глядя на ненавистную ему толпу людей. У него не было ничего впереди. Он все презирал. Он был только силой. Силой разрушения. Он шел слабый, невзрачный, в жалком, потертом платье, и страшный по простоте своих мыслей, призывающих отчаяние и безумие, как силы, которые должны возродить мир. Ни это на него не смотрел. Он проходил, неведомый и смертоносный, как чума, по улице, заселенной людьми.