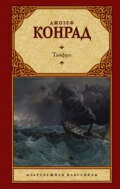Джозеф Конрад
Тайный агент
Раздавшийся вдруг резкий смех товарища Озипона прервал Михаелиса на полуслове, и он не мог сразу продолжать. В его кротких восторженных главах появилось выражение растерянности. Он медленно закрыл их, как бы для того, чтобы собрать разбежавшиеся мысли. Наступило молчание. От пылающего огня камина и от двух газовых рожков над столом в комнате сделалось душно. М-р Верлок тяжеловесно поднялся с дивана, открыл дверь в кухню, чтобы впустить больше воздуха, и увидел Стэви, сидевшего спокойно за кухонным столом. Он по обыкновению чертил круги, бесконечное число кругов, концентрических, эксцентрических, целый хаос кругов, которые множеством сплетенных и повторенных кривых, множеством пересекающихся линий были каким-то отражением космического хаоса, символом безумного искусства, которое гонится за недостижимым. Художник даже не повернул головы, низко наклонившись над работой. М-р Верлок, неприятно удивленный присутствием мальчика в соседней комнате, вернулся на свое место на диване. Александр Озипон поднялся с места. Он казался очень высоким в комнате с низким потолком.
Пройдя в кухню, он стал за спиной Стэви, поглядел на его работу и, вернувшись, произнес тоном оракула:
– Очень хорошо. Очень характерно, совершенно типично.
– Что хорошо? – ворчливо спросил м-р Верлок, усевшийся снова в углу дивана.
Озипон небрежно пояснил свои слова, кивнув головой по направлению в кухне:
– Типичная форма вырождения, – я говорю о рисунках.
– Вы считаете мальчика дегенератом? – пробормотал м-р Верлок.
Товарищ Александр Озипон, по прозвищу «Доктор», был медиком без диплома, потом ездил из города в город читать лекции о гигиене с социальной точки зрения во всех рабочих союзах. Он был автором популярного полунаучного очерка (в виде дешевого памфлета, конфискованного вскоре после выхода в свет) под заглавием: «Губительные пороки среднего класса»; кроме того, он был делегатом таинственного главного комитета. Ему, вместе с Карлом Юнтомь и Михаэлисом, поручена была литературная пропаганда. Этот человек глядел теперь на тайного соглядатая, состоявшего в сношениях, по меньшей мере, с двумя посольствами, взглядом, выражавшим непоколебимую уверенность.
– Да, так его можно назвать с научной точки зрения. Очень типичный образчик этого рода дегенерации. Достаточно взглянуть на его уши. Если бы вы читали Ломброзо…
М-р Верлок, рассевшись широко на диване, стал пристально смотреть на пуговицы жилета. Щеки его слегка покраснели. В последнее время всякое упоминание чего-нибудь, относящегося в науке (слово само по себе невинное и довольно неопределенное), странным образом вызывало тотчас же в уме м-ра Верлока живой и весьма неприятный образ м-ра Вальдера. Это явление, составляющее, быть может, именно одно из чудес науки, погружало м-ра Верлока в странное состояние волнения и страха и вызывало в нем желание наговорить грубых слов, ругаться, чтобы облегчить этим душу. Но он ничего не сказал. Раздался голос не его, а Карла Юнта, неподкупного в своей прямолинейности.
– Ломброзо – осел! – выпалил он.
Товарищ Озипон взглянул на него испуганными широко раскрытыми глазами в ответ на такое богохульство. А Юнт продолжал сердитым голосом, ежеминутно схватывая губами кончик языка; он точно жевал его со злости.
– Да ведь этот идиот Бог весть что говорит! – кричал он. – Преступник для него – это заключенный в тюрьму. – Просто, не правда ли? Ну, а как относительно тех, которых сажают туда силой? Да, силой. Да и что такое преступление? Разве он знает это, ваш глупый пошляк, который прославился среди других пошляков тем, что стал рассматривать уши и зубы несчастных жертв? По его мнению, зубы и уши накладывают клеймо на преступника. А что сказать о законе, который еще яснее клеймит, – о способе клеймения, изобретенном сытыми для ограждения от голодных? Они раскаленным железом клеймят тело несчастных. Разве не слышите отсюда, как шипит под раскаленным железом живое тело? Вот как изготовляются преступники для Ломброзо и его глупостей.
Набалдашник его палки и его ноги дрожали от волнения, но его фигура, задрапированная в широкий плащ, сохраняла гордый и вызывающий вид. Он точно различал в воздухе запах жестокости, точно подслушивал чутким ухом страшные крики страдания. Чувствовалась большая сила во всем его существе. Почти умирающий ветеран динамитных войн был в свое время большим актером – актером на трибуне на тайных собраниях, в частных беседах. Он сам никогда в жизни пальца не поднимал во вред обществу. Он не был человеком действия и не был даже оратором, увлекающим потоком красноречия. Но он умел вызывать все разрушительные инстинкты в угнетенных, пробуждать озлобленность в бедняках. Он умел призывать к мятежу, и слабые остатки рокового дара все еще сохранились в нем.
Михаэлис улыбался отсутствующей улыбкой, не разжимая губ. Он понурил голову, сочувствуя словам Юнта. Он сам был в тюрьме. Его тело тоже жгли раскаленным железом, – и он теперь тихо напомнил об этом.
Товарищ Озипон, по прозванию «Доктор», оправился от первого впечатления слов Юнта.
– Вы этого не понимаете, – начал он презрительным тоном, но остановился, испуганный мертвенной чернотой провалившихся глаз, медленно повернувшихся к нему слепым взглядом. Он слегка пожал плечами и отказался от дальнейшего спора.
Стэви, привыкший, чтобы на него не обращали внимания, встал из-за кухонного стола и, взяв рисунки, направился в себе в комнату спать. Он очутился у двери лавки как раз во-время, чтобы выслушать всю образную речь Карла Юнта. Лист бумаги с нарисованными на нем кругами выпал у него из рук; он остановился как вкопанный, не сводя глаз с старого террориста. Его точно приковали к месту болезненный ужас и страх перед физической болью. Стэви хорошо знал, что если приложить раскаленное железо в телу, то от этого очень больно. Глаза его загорелись негодованием. Он ясно представил себе, до чего это больно. Он стоял, раскрыв широко рот.
Глядя неуклонно в огонь, Михаэлис снова испытал чувство уединения, необходимое для него, чтобы сосредоточить свои мысли. Из его уст снова потекли оптимистические пророчества. Он доказывал, что капитализм обречен на погибель с самой колыбели, так как родился с ядом конкуренции в крови. Большие капиталисты поедают маленьких, сосредоточивают силу и орудия производства в больших центрах, совершенствуют орудия промышленности и в безумном своем самовозвеличении подготовляют только законное наследие страдающего пролетариата. Михаэлис произнес великое слово: «Терпение», и в его ясном взгляде, поднятом в низкому потолку комнаты, отразилась ангельская твердость веры. Стэви, не отходивший от дверей, успокоился и точно впал в забытье.
На лице товарища Озипона отравилось нетерпение.
– Так, значит, нет надобности что-либо делать, – значит, лучше всего ждать, сложа руки?
– Я этого не говорю, – мягко возразил Михаэлис. – Видение истины так сильно внедрилось в него, что звук чужого голоса уже не мог его рассеять. Он продолжала смотреть в красные уголья. Нужно было готовиться в будущему, он готов был допустить, что великий переворот совершится среди взрыва революции. Но он только доказывал, что революционная пропаганда – дело, требующее чуткой совести. Революционная пропаганда, это – воспитание будущих властителей мира; оно, должно быть поэтому таким же тщательным, как воспитание королей. Нужно было, по его мнению, крайне осторожно, даже робко раскидывать сети пропаганды, так как мы совершенно не знаем, какое влияние может оказать всякое данное изменение экономических условий на счастье, нравственность, ум и историю человечества. История делается орудиями производства, а не идеями, – все меняется от изменения экономических условий – искусство, философия, любовь, добродетель – даже истина.
Уголья в камине с треском обрушились, и Михаэлис порывисто поднялся с места. Круглый, как раздувшийся шар, он раскрыл свои короткие толстые руки, как бы в безумном и неосуществимом желании обнять и прижать в груди обновленную собственным усилием вселенную. Он прерывисто дышал, отдаваясь пламенному порыву веры.
– Будущее так же установлено, как минувшее: рабство, феодализм, индивидуализм, коллективизм. Это – твердый закон, а не пустое пророчество.
Презрительная усмешка на толстых губах товарища Озипона еще яснее выдала негритянский тип его лица.
– Глупости! – сказал он довольно спокойно. – Нет никаких законов, и нельзя ничего определить заранее. Обучать – бессмысленно. Совершенно безразлично, что люди знают, хотя бы знания их были самые точные. Важны только эмоции. Без эмоций невозможно действие.
Он остановился и прибавил скромно, но решительно:
– Ведь я это говорю вам чисто научно, – научно. Что? что вы сказали, Верлок?
– Ничего, – пробормотал м-р Верлок. Услышав со своего места на диване ненавистный ему звук, м-р Верлок не мог удержаться от восклицания досады.
Старый, безгубый Юнт принялся опять шипеть. Слова его были точно пропитаны ядом.
– Знаете, каков, по-моему, современный экономический строй? Я его называю каннибальским. Люди утоляют свою жадность, питаясь живым телом и теплой кровью своих ближних. Ничем другим их нельзя насытить.
Услыхав это ужасное заявление, Стэви застонал и сразу, точно в него влили быстро действующий яд, опустился и присел на ступеньки, ведущие в кухонной двери.
Михаэлис, по-видимому, ничего не слышал вокруг себя. Губы его окончательно сомкнулись и щеки отвисли, как неживые. Он оглянулся мутными глазами, ища свою круглую шляпу, и надел ее. Его заплывшее круглое тело точно плыло между стульями под острым локтем Карла Юнта. Старый террорист поднял дрожащую руку и надел широкополую фетровую шляпу. Он медленно двинулся с места и шел, на каждом шагу ударяя палкой по полу. Было довольно трудно выпроводить его из дому; он от времени до времени останавливался, задумываясь о чем-то, и не двигался с места, пока Михаэлис не подталкивал его. Кроткий апостол брал его под-руки с братской заботливостью; за ними шел, позевывая и засунув руки в карманы, коренастый Озипон. Сдвинутая назад синяя фуражка с кожаным околышем придавала ему вид скандинавского матроса, которому тоскливо после хорошей выпивки. М-р Верлок проводил своих гостей, попрощался с ними, все время держа глаза опущенными, затем закрыл за ними дверь, запер ее на ключ, задвинул засов. Он был недоволен своими друзьями. В свете теорий м-ра Вальдера они никуда не годились. А м-р Верлок должен был соблюдать определенную тактику в своих отношениях с революционерами, и не мог поэтому, ни дома, ни на больших революционных собраниях, взять на себя инициативу действия. Необходимо было соблюдать осторожность. Чувствуя негодование, вполне естественное в человеке, которому уже за сорок лет, и которому грозят отнять самое ему дорогое – его безопасность и спокойствие, – он с гневным презрением говорил себе, что ничего другого нельзя и ожидать от таких людишек, как Карл Юнт, Михаэлис и Озипон.
Остановившись в своем намерении потушить газовый рожок в лавке, м-р Верлок погрузился в бездну нравственных рассуждений. Он стал судить всю компанию. Бездельники они, в особенности Карл Юнт, которого нянчила его старая подруга. Он когда-то сманил ее от одного друга и потом много раз хотел отделаться от неё. Но, к счастью для Юнта, она от времени до времени снова к нему возвращалась. И теперь, не будь её, некому было бы помочь ему садиться в омнибус, когда он отправлялся на прогулку. Когда старуха умрет, то конец и Карлу Юнту, со всеми его разрушительными теориями. Нравственное чувство Верлока оскорблено было также оптимизмом Михаэлиса, который жил теперь на попечении одной богатой старой дамы. Она часто посылала его в свой коттедж в деревне, и он целыми днями ходил по тенистым аллеям, обдумывая среди приятного досуга будущее человечества. И Озипон тоже умел как-то доставать деньги для жизненных удобств.
Думая о них, м-р Верлок прежде всего чувствовал зависть в их праздности. Он вдруг вспомнил о м-ре Вальдере, и зависть его в его друзьям-революционерам разгорелась еще сильнее. Хорошо им бездельничать! Они не ответственны перед ужасным м-ром Вальдером. К тому же, у них есть женщины, заботящиеся о них, а он, напротив того, имеет жену, о которой он должен заботиться.
Тут, по простой ассоциации идей, м-р Верлок вспомнил, что пора идти спать. Он вздохнул, так как знал, что ему не так-то легко будет заснуть. Уже много ночей его мучила непобедимая бессонница. Он поднял руку и затушил газовый рожок над головой.
Широкая полоса света проникла через дверь соседней комнаты в лавку, за прилавок. Ори этом свете м-р Верлок мог пересчитать выручку. Сумма была очень небольшая, и он в первый раз с тех пор как открыл лавку, задумался о коммерческой стороне своей торговли. Результат подсчета оказался весьма неблагоприятным. Он, правда, занялся торговлей не из коммерческих побуждений, а выбрал свой род торговли вследствие инстинктивного тяготения к темным промыслам, в которых деньги достаются легко. Кроме того, содержа свою лавку, он оставался в своей области, т. е. под непосредственным надзором полиции, с которой он все равно имел тайные сношения. Все это создавало значительные удобства, но как средство в жизни этого было недостаточно.
Он вынул шкатулку с деньгами из ящика и направился уже в себе наверх, как вдруг заметил, что Стэви все еще в кухне.
«Что это он тут делает? – подумал м-р Верлок. – Чего он тут скачет?» М-р Верлок с удивлением посмотрел на мальчика, но ничего у него не спросил. Все разговоры м-ра Верлока с Стэви ограничивались тем, что он после утреннего завтрака говорил ему: «сапоги», – но не в форме приказа, а просто как сообщение факта, что он нуждается в сапогах. М-р Верлок с изумлением заметил теперь, что совершенно не знает, как говорить с Стеви. Он стоял среди комнаты и молча глядел в кухню. Он даже не знал, что могло бы произойти, если бы он что-нибудь сказал. Это вдруг показалось очень странным м-ру Верлоку, особенно в виду того, что мальчик находится всецело на его попечении и живет на его средства. С этой стороны он до сих пор никогда не смотрел на Стэви.
Он, положительно, не знал, как говорить с мальчиком, и молча смотрел, как тот что-то бормочет и сильно жестикулирует, бегая вокруг стола, как зверь в клетке. Нерешительное предложение м-ра Верлока: «Пошел бы ты лучше спать» – не произвело никакого впечатления. М-р Верлок перестал наконец наблюдать за странным поведением мальчика и пошел наверх, держа в руках шкатулку с деньгами. Он чувствовал страшную слабость, поднимаясь по лестнице, и это его беспокоило. Уж не заболеет ли он, чего доброго? Остановившись наверху лестницы, чтобы оправиться, он услышал мерный храп из комнаты своей тещи. «Вот еще и о ней нужно заботиться», – подумал он и направился в спальню.
М-сс Верлок заснула, не затушив лампы, стоявшей на столике у постели. Свет ярко падал на её лицо с закрытыми глазами и на черные волосы, заплетенные на ночь в косы. Она проснулась, услышав несколько раз громко повторенное свое имя.
– Винни, Винни! – звал муж, наклонившись над нею.
Она открыла глава и спокойно посмотрела на мужа, стоявшего у постели с шкатулкой в руках. Но когда она услышала, что брат её прыгает по кухне, она быстро соскочила с постели и надела туфли.
– Я не знаю, как с ним быть, – сказал м-р Вердок. – Нельзя оставить его внизу и не тушить света.
Она ничего не сказала и быстро выскользнула из комнаты. М-р Верлок поставил шкатулку на стол и стал ходить по комнате. Подойдя к окну, он поднял жалюзи и выглянул на улицу. За окном чувствовалась сырая, холодная ночь, грязь на улице. Дома имели неприветливый, угрюмый вид. М-ру Верлоку сделалось жутко. Ему вдруг показалось, что он и его близкие могут очутиться выброшенными на улицу среди холода и грязи, которую он видел в эту минуту перед собою. И вдруг перед его глазами мелькнуло, как в видении, лицо м-ра Вальдера; оно казалось розовым пятном среди мрака.
Мелькнувший на минуту образ был до того ясный, что м-р Верлок отшатнулся от окна, и жалюзи опустились с громким шумом. Окаменев от ужаса, что такие видения могут повториться, он увидел жену, вернувшуюся в спальню, и обрадовался присутствию живого существа. М-сс Верлок удивилась, что он еще не лег.
– Мне нездоровится, – пробормотал он, проведя рукой то влажному от пота лбу.
– У тебя голова закружилась?
– Да, мне очень нехорошо.
М-сс Верлок со спокойствием опытной женщины предложила обычные в таких случаях лекарства, но Верлок, не двигаясь с места, только отрицательно качал головой.
Наконец, она убедила его лечь в постель, чтобы не простудиться. Чтобы вызвать ее на разговор, м-р Верлок спросил, затушила ли она газ внизу?.
– Да, затушила, – ответила м-сс Верлок. – Бедный мальчик сегодня очень возбужден, – заговорила она после короткой паузы.
М-ру Верлоку не было никакого дела до возбужденности Стэви, но он так боялся темноты и тишины, которая наступит, когда потушат свет, что старался затянуть разговор. Он сказал, что Стэви не послушался его, когда он послал его спать. М-сс Верлок, попавшись в ловушку, стала доказывать мужу, что это не от непослушания, а от нервности. Стави – доказывала она – послушный и кроткий мальчик и пригоден для всякой работы; не нужно только кружить ему голову вздором. М-сс Верлок старалась уверить мужа, что Стэви – полезный член семьи, и страстное желание защитить мальчика, ж которому она чувствовала болезненную жалость с самого детства, возбуждало ее. Глаза её сверкали темным блеском, и она казалась прежней молоденькой Винни того времени, когда мать её сдавала комнаты жильцам. М-р Верлок не слушал слов её. Он был слишком поглощен собственной тревогой, и голос её доходил до него как бы из-за плотной стены. Но вид её пробуждал его от кошмара. Он был привязан к этой женщине, – и это чувство только усиливало теперь его душевные муки. Когда она замолкла, ему снова сделалось страшно и он сказал:
– Мне очень нездоровится последние дни.
Может быть, эти слова были вступлением в полной исповеди, но м-сс Верлок слишком занята была мыслью о брате, и продолжала говорить о нем.
– Он слишком много слышит того, что не следует. Если бы я знала, что они сегодня придут, я бы его услала спать, когда пошла сама. Он что-то слышал о том, что едят мясо людей и пьют их кровь, и теперь вне себя. Зачем болтать такой вздор?!
В голосе её послышалось возмущение. М-р Верлок окончательно оправился.
– Спроси Карла Юнта, – сказал он.
М-сс Верлок решительно заявила, что Карл Юнт – противный старик. Она призналась в симпатии к Михаэлису. Об Озипоне она ничего не сказала; она чувствовала что-то пугающее за его каменным спокойствием. Продолжая говорит о брате, который был в течение стольких лет предметом её попечения, она сказала:
– Ему нельзя слушать того, что здесь говорится. Он думает, что все это правда, и совершенно с ума сходит.
М-р Верлок ничего не ответил.
– Он посмотрел на меня, точно не знал, кто я. Сердце его стучало как молоток. Он не виноват, что у него такая повышенная чувствительность. Я разбудила маму и просила ее посидеть, с ним, пока он заснет. Он не виноват. Он совсем кроткий, если его оставить в покое.
М-р Верлок и на это ничего не сказал.
– Напрасно его посылали учиться в школу, – снова заговорила м-сс Верлок. – Он берет газеты из витрины и читает их. А потом у него лицо красное от возбуждения. Мы не продаем и двенадцати нумеров в год. они напрасно занимают место в витрине. А м-р Озипон приносит каждую неделю кипы брошюрок «Б. П.» и говорит, чтобы их продавать по под-пенни. А по-моему, так не стоит дать пол-пении за все. Глупое это чтение! На днях, Стэви взял одну из этих брошюрок. Там говорилось о немецком офицере, который чуть не оторвал ухо у рекрута, и за это ему не было такого наказания. В тот день я ничего не могла поделать с Стэви. Да ведь и правда: от таких историй кипит кровь. И зачем печатать такие известия? Здесь ведь не Пруссия. Какое же нам дело до них?
М-р Верлок ничего не ответил.
– Мне пришлось отнять у него кухонный нож, – продолжала м-сс Верлок уже слегка сонным голосом. – Он кричал, рыдал, топал ногами. Он не выносит никакой жестокости. Он заколол бы офицера, как поросенка, если бы увидал его. Да и действительно, бывают люди, которых нельзя жалеть.
М-сс Верлок замолкла, и глаза её стали смыкаться.
– Тебе лучше? – спросила она слабым голосом мужа. – Не затушить ли свет?
В страхе перед наступающей темнотой и бессонницей, м-р Верлок не мог сразу ответить. Наконец, он сделал лад собой усилие.
– Затуши, – сказал он глухим голосом.
VII.
Вице-директор прошел по узкому травному переулку и, выйдя оттуда на широкую улицу, вошел в общественное здание внушительных размеров. Там он обратился к частному секретарю начальствующего лица с просьбой доложить о его приходе. Лицо молодого секретаря, розовое и безмятежное, озабоченно нахмурилось, и он стал что-то говорить о том, что его начальник утомлен и озабочен.
– Гринвичским делом? – спросил вице-директор.
– Да. Он очень на вас сердит.
Вице-директор все-таки настоял на том, чтобы о нем доложили, и чрез несколько минут очутился в кабинете начальника. Он пробыл там довольно долго и вышел из кабинета с довольным лицом. Ему удалось выполнить свой план, который заключался в том, чтобы отстранить от гринвичского дела главного инспектора Хита, неудобного ему своим желанием привлечь в ответственности Михаэлиса. Вице-директор сообщил своему главному начальнику очень сенсационные вести, рассказал про посольского агента Верлока и выяснил провокационный характер гринвичского происшествия. Начальник был крайне поражен сообщениями вице-директора, и тот умело воспользовался произведенным впечатлением. Он сказал, что сведения свои имеет от главного инспектора Хита, но что Хит выказал в этом деле некоторое превышение власти; он пользовался услугами Верлока, зная, каков его род деятельности, и не сообщая об этом по начальству. Говоря, что это, конечно, не мешает Хиту быть вполне преданным и заслуживающим доверия служащим, он все-таки предложил на этот раз отказаться от его услуг. Он сказал, что сам займется исследованием сложных обстоятельств дела и обличит Верлока, что, по его мнению, необходимо сделать для предупреждения таких же происшествий в будущем. Сваливать вину на Михаэлиса, как это собирался сделать Хит, он считал крайне несправедливым и нежелательным. Заручившись согласием начальника на свой образ действий, он сказал, что в этот же вечер отправится сам к Верлоку, конечно, изменив свой внешний вид, и поздно вечером придет сообщить о результатах своему начальнику в Вестминстере, так как в этот вечер предстояло позднее вечернее заседание.
Вице-директор медленно вернулся обратно в свой департамент и прошел в себе в кабинет. Сев у письменного стола, он позвонил.
– Главный инспектор Хит ушел? – спросил он вошедшего.
– Да, сэр. Ушел с полчаса тому назад.
Он отпустил служителя, кивнув головой, и продолжал сидеть несколько времени неподвижно, в досаде на Хита, который спокойно унес единственное вещественное доказательство. «Но, конечно, – подумал он, – лоскуток сукна с адресом – слишком драгоценная улика, чтобы оставлять ее где попало, и Хит поступил как преданный, честный слуга». Успокоившись насчет Хита, вице-директор написал и отправил жене записку, прося ее передать его извинение покровительнице Михаэлиса, в которой они были приглашены в обеду.
Отправив записку, он подошел к задернутому занавеской алькову, где стоял умывальный столик и развешано было на крюках разное платье, и переоделся там, выбрав короткую жакетку и низкую круглую шляпу. В этом виде он вышел на улицу, где сразу окунулся в мрачную сырость осеннего вечера. Остановившись на краю панели, он стал ждать. Привычно зорким глазом он заметил среди движущихся огней и теней на мостовой медленно приближающийся кэб. Он не подозвал его рукой, но когда медленно двигающийся экипаж поровнялся с ним, он быстро отворил дверцу и сел; когда он крикнул в окошечко, куда ехать, кучер был почти удивлен присутствием седока в экипаже.
Ехать было недалеко. Седок остановил знаком кучера в неопределенном месте, между двумя фонарями перед большим магазином мануфактурных товаров, протянул ему деньги через окошечко и исчез как призрак. Но возница был удовлетворен размером платы за проезд и уехал вполне довольный, не задумываясь о странном седоке, которого вез. Вице-директор вошел в маленький ресторан; это была одна из многих рассеянных по городу ловушек для голодных: маленькое помещение с зеркалами и белыми скатертями на столах, душное, без воздуху, с особым запахом плохой пищи, которая обманывает, но не удовлетворяет голод. Сев за столик, вице-директор сосредоточился на мыслях о своем предприятии, все более теряя сознание своей личности. У него было странное ощущение одиночества и свободы. Когда, заплатив за свой более чем скромный обед, он поднялся и в ожидании сдачи, поглядел на себя в зеркало, он увидел с удовольствием, что непривычная одежда изменила его вид до неузнаваемости. Для довершения перемены, он еще поднял воротник, закрутил кверху черные усы и в таком виде вышел из ресторана.
Очутившись на улице, он подумал о том, до чего итальянские рестораны в Лондоне утратили всякий национальный характер вследствие подлаживания под английские вкусы и употребления плохих продуктов. Хозяева этих ресторанов – тоже какие-то оторванные от всякой почвы люди; они как бы созданы только для своих помещений и не имеют другого места на земле. И он сам в эту минуту почувствовал себя тоже человеком без определенного места и положения. Никто бы не мог сказать, глядя на него, чем он занимается. И это сознание обрадовало его. Он энергично зашагал по грязной сырой мостовой, окутанной мглою сырой лондонской ночи.
Брэт-Стрит находилась неподалеку. Она начиналась по одну сторону открытого треугольного пространства, окруженного темными таинственными домами, храмами мелкой торговли, опустевшими на ночь. Только навес торговца фруктами на углу сверкал яркими огнями. За ним все было темно, и люди, направлявшиеся в ту сторону, исчезали, как только проходили на шаг за сверкающие груды апельсинов и лимонов. Не слышно было даже звука шагов. Отважный начальник департамента по особо важным делам с интересом следил за некотором расстоянии за этими исчезновениями. У него было легко на сердце, точно он бродил один в девственном лесу, за много тысяч миль от канцелярских столов и канцелярских чернильниц.
На фоне сияющих апельсинов и лимонов показалась фигура полисмена; он, не спеша, повернул на Брэт-Стрит. Вице-директор отошел в сторону, выжидая его возвращения.
Но он так и исчез навсегда, – очевидно, выйдя из Брэт-Стрита с другого конца.
Переждав несколько времени, вице-директор свернул на Брэт-Стрит. Там он увидел большой воз ломовика, стоявший перед тускло освещенными окнами простой кухмистерской. Ломовик ужинал, а лошади на улице тоже ели, опустив в мешки с овсом могучие головы и дальше, по другую сторону улицы, показалась другая полоса бледного света из лавки м-ра Верлока. Вице-директор остановился и стал смотреть на освещенное окно. Ошибиться нельзя было. Рядом с витриной, где выставлены были разные подозрительные предметы, полуоткрытая дверь пропускала узкую полосу света изнутри.
За спиной вице-директора воз и лошади, слившиеся в одну массу, казались чем-то живым – огромным черным чудовищем, загораживающим улицу. Яркий свет из большего трактира прямо против Брэт-Стрита на широкой людной улице как бы отталкивал мрак вглубь улицы и усугублял мрачный, зловещий вид дома м-ра Верлока.
VIII.
Пользуясь своими связями среди оптовых торговцев съестными припасами, товарищей её покойного мужа, мать м-сс Верлок добилась, наконец, долгими стараниями и приставаниями места в богадельне, основанной богатым трактирщиком для бедных вдов торговцев съестными припасами.
Задавшись этой целью, старуха преследовала ее с чрезвычайной настойчивостью и скрытностью. Дочь её, Винни, даже как-то заметила мужу, что «мама тратит по полу-кроне и по пяти шиллингов в день на разъезды». Она сказала это без осуждения, а только удивляясь внезапной страсти матери к разъездам. М-ру Верлоку, занятому мыслями о более важных делах, было не до лишних пяти шиллингов, и он не обратил внимания на замечание жены.
Достигнув цели, мать м-сс Верлок решилась, наконец, открыться дочери. Она радовалась в душе своей удаче, но несколько боялась своей дочери Винни, которая в случаях неудовольствия терроризировала ее своим молчанием. Но все-таки она сообщила ей, наконец, сенсационную новость, сохраняя при этом свой внушительно-спокойный вид.
Неожиданность известия так поразила м-сс Верлок, что, вопреки обыкновению, она прервала работу, которою была занята, – она вытирала пыль в комнате за лавкой – и обернулась к матери:
– На что вам это понадобилось? – с удивлением спросила она, отрешившись от своей привычки принимать факты без расспросов, что было её силой и оплотом в жизни. – Разве вам нехорошо жилось у нас?
После этих вопросов, на которые испуганная мать не могла ответить от страха, она снова принялась за прерванную работу. Продолжая сметать пыль, сначала со стула, потом с дивана, она позволила себе среди работы предложить еще один вопрос.
– Как же вам это удалось, мама?
Так как этот допрос не касался существа дела, а относился в средствам выполнения, то любопытство молодой женщины было извинительно. Мать её обрадовалась её вопросу, который давал ей возможность рассказать все в подробностях. Она ответила дочери очень обстоятельно, называя имена богатых торговцев, друзей её покойного мужа, распространяясь с особой признательностью об одном богатом пивоваре и разных других благодетелях, которые отнеслись в её ходатайству с чрезвычайной добротой. Винни выслушала рассказ матери, продолжая свою работу, и затем спокойно вышла из комнаты без единого замечания.
Пролив несколько слез в знак радости, что дочь её выказала такую терпимость, мать м-сс Верлок стала размышлять о том, как распределить мебель, составляющую её собственность. Кое-что ей нужно было взять с собой, так как благотворительное учреждение предоставляло только голые стены в распоряжение пансионеров. Она из деликатности выбрала наименее ценные предметы, наиболее потертую мебель, но никто не оценил её благородства. Жизненная мудрость Винни заключалась в том, чтобы не обращать внимания на суть и смысл фактов. Она предположила, что мать её взяла с собой как-раз то, что ей более всего подходило. А сам м-р Верлок был настолько погружен в размышления, что внешний мир казался ему суетным и призрачным.