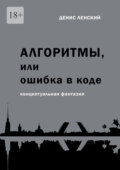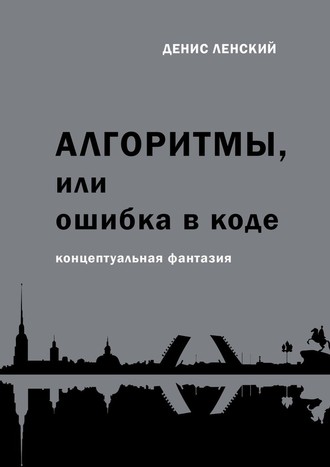
Денис Ленский
Алгоритмы, или Ошибка в коде. Концептуальная фантазия
Психолог
Психолога, их старого школьного приятеля, Журналист в шутку характеризовал как «занудное хранилище интеллекта». Захар родился в небольшом селе на границе Украины с Белоруссией в семье простых сельских тружеников.
Маленький мальчик постоянно ставил взрослых в тупик своими необычными вопросами, особенно на божественную тему. Ни отец, ни мать не могли ему толком объяснить, почему принято говорить «до нашей эры»? До чьей – «нашей»? Неужели до рождения Иисуса Христа была чужая эра? А после того, как родители в пятилетнем возрасте надумали его покрестить, он завалил их новой порцией вопросов. Он не понимал, для чего младенцев в церкви окунают в воду? Ведь если они при этом плачут, то, значит, им это не нравится, выходит – их крестят силой? А зачем? Если все люди – Божьи дети, то почему крещёных детей Бог любит больше? И какая принципиальная разница между крещённой в детстве матерью и некрещёным отцом? И почему одни люди верят в Бога, другие верят в Аллаха, а третьи – вообще ни во что не верят, но на всякий случай крестятся? Не добившись вразумительных ответов от родителей, он начал искать их в школьных учебниках. Но когда и там он их не нашёл, его стал мучить вопрос: почему всесильный Бог, создавший всё на свете, не может чудесным образом создать простой и понятный даже школьнику учебник «от Бога» и дарить его каждому ребёнку в день рождения персонально? Почему, как в школе, нет учебника, например, «Твоя жизнь. Восьмой год обучения» и задачника с ответами в конце?
Когда его мать умерла, отец вместе с маленьким сыном переехал к своей сестре в Ленинград и женился там второй раз. Новая мама, работавшая экскурсоводом в Петергофе, серьёзно взялась за гуманитарное образование приёмного сына, и вопрос, куда поступать после окончания школы, само собой, не поднимался. Однако сразу поступить не удалось, и Захар для начала отправился в армию.
После армии он женился на своей бывшей однокласснице Марине. Затем у них родилась первая дочь, а спустя несколько лет – вторая. Захар Сидоренко был кандидатом психологических наук, доцентом престижного ленинградского вуза. А кроме того – отличным мужем и заботливым отцом. Но всё свободное от семейных забот время он отдавал любимой работе. Ну и, конечно же, регулярным встречам со старыми друзьями.
Вернувшись в комнату с подносом, на котором дымились горячие чашки, Программист понял, что Журналист даже не собирается доигрывать партию. Поставив поднос на стол, он взял в руки книгу, которую недавно листал Психолог. Раскрыв её на первой попавшейся странице, он с выражением прочитал:
«Ах, мошенник, мошенник, – качая головой, говорил Воланд, – каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную пачкотню».
Книга, которую держал в руках Программист, на первый взгляд была похожа на обыкновенную книгу: чуть желтоватая бумага и твёрдый переплёт чёрного цвета ничем не отличали её от сестриц, которые годами пылятся в библиотеке на книжной полке. Но присмотревшись внимательно, можно было обнаружить некоторые странности. На её обложке не было ни названия книги, ни фамилии автора. В то же время она не походила на самиздат, потому что была напечатана явно типографским способом. Кроме того, внизу, на корешке можно было заметить тиснёную золотистую цифру «З» в небольшом кружочке. О том, что это не цифра, обозначающая номер тома, а буква «З», символизирующая Зазеркалье, Программист обычно умалчивал. Иначе ему пришлось бы сразу объяснять, что это такое – Зазеркалье, а он по собственному опыту знал, что это вызовет в лучшем случае улыбку недоверия.
Но наибольшее удивление у читателей обычно вызывало содержание книги. Оно менялось в зависимости от того, кто последним держал её в руках. Кроме того, содержание книги зависело также и от того, с какой стороны она была открыта. То есть, текст, рисунки и фотографии, словом – вся информация под обложкой могла таинственным образом изменяться в зависимости от того, какое именно произведение хотел почитать человек, открывший магическую книгу с той или с другой стороны. Программист называл её цитатником.
Когда читателю вдруг требовалась дополнительная справочная информация, то в её поисках не нужно было рыться в толстых энциклопедиях и словарях. Достаточно было просто перевернуть цитатник – и подсказка оказывалась как раз на той странице, на которой книга была открыта. И в то же время, перевернув книгу обратно, можно было спокойно продолжать чтение произведения. Это удивительное свойство книги вызывало восхищение у ковалёвских гостей, а вопрос «откуда она знает, что я хочу прочитать?» исчезал сам собой после нескольких экспериментов.
Психолог давно привык к такому замечательному инструменту, и когда возникала необходимость найти какую-то цитату или другую дополнительную информацию, он пользовался магической книгой с большим удовольствием. Однако главный секрет цитатника заключался в том, что волшебные свойства книги пропадали, как только она покидала границы квартиры. Вернее, пропадала сама книга. Самым неожиданным образом она просто куда-то испарялась, и появлялась в ковалёвской квартире на свободном месте: на столе или на полке, причём, предугадать это место заранее было невозможно. По этой причине Журналист относился к книге несколько настороженно и называл её шаманской энциклопедией, а самого Программиста – чернокнижником.
Однажды Журналист рассказал друзьям историю о том, как на первом курсе, будучи ещё неопытным юнцом, он познакомился с восточной красавицей, студенткой из солнечного Узбекистана. Когда после робких и целомудренных поцелуев дело дошло до интимных отношений, молодой и не искушённый в любовных вопросах Журналист столкнулся с проблемой, мешавшей его подруге преодолеть естественный психологический барьер. Вспомнив, что ни один учебник в мире не сближает людей с разными интересами так, как «Камасутра», он исхитрился и достал этот дефицитный в советской стране справочник по сексологии. «Камасутра» действительно помогла ему в самый ответственный момент. С тех пор Гуля стала частенько появляться в родительской квартире. Отец, видимо, обо всём догадывался, но никоим образом не реагировал на поведение сына. А мать, воспитанная в лучших советских традициях, отказывалась понимать, почему это девушка стала так часто бывать у них дома, когда они с мужем уезжают на дачу. Не желая замечать, что её отпрыск давно уже вырос, она всё время приставала к сыну с разными наводящими вопросами. В один прекрасный момент это Журналисту надоело, и на очередной вопрос матери «вы ведь с Гулей просто дружите?» он довольно резко ответил: «да, мама, просто дружим, но не так часто, как хотелось бы».
Друзья тогда посмеялись, а Студент, столкнувшись однажды с подобной проблемой, вспомнил рассказ старшего приятеля. Потихоньку от своего брата он превращал книгу в «Камасутру» и штудировал её, закрывшись в «читальне». А однажды, когда подвернулся удобный случай, он взял книгу с собой на очередное свидание со своей первой девушкой. Студент тогда ещё не знал всех особенностей магической книги, и когда в самый ответственный момент «учебника» в портфеле не оказалось, он попал в неловкую ситуацию. «Конспекта я тогда сделать не успел, поэтому пришлось напрягать свою память и подключать фантазию. Но экзамен на аттестат половой зрелости я тогда тоже сдал», – хвастался он по секрету Журналисту. Тот, видимо, живо представил себе всю картину, и вместо того, чтобы посмеяться над приключением незадачливого дон Жуана, стал относиться к магической книге с большой опаской. Зато Студент, хорошо усвоив урок, с тех пор использовал волшебные возможности книги по назначению, исключительно для повышения своей эрудиции.
Журналист заглянул Программисту через плечо и чертыхнулся:
– Никак не привыкну к этой чёртовой книженции. От неё одни неприятности.
Программист рассмеялся.
– Цитатник тем и хорош, что он всегда под рукой. Ну, разве сейчас скажешь лучше Булгалкова? Короче, Никитос, не заговаривай мне зубы. Говори прямо, будем доигрывать партию, или сдаёшься?
– Ну, шо таки сразу «сдаёшься»? Может, мы как-нибудь иначе договоримся?
– Никита, ты великолепен, – улыбнулся Психолог. – А тебе, Лёха, в любом случае его не обыграть. Он таки выкрутится. Одесская национальная шахматная школа, не так ли, товарищ Голубович?
Журналист
Никита родился в Одессе. Его отец, известный на всю страну партийный и государственный деятель, был очень требователен к единственному сыну и всегда держал его в ежовых рукавицах. Зато мать, несмотря на то, что она имела педагогическое образование и работала учительницей, компенсировала отцовскую строгость безмерным попустительством. Втайне от мужа она с самого младенчества баловала своё любимое чадо. Когда отца перевели из Одессы в Ленинград, юный пионер Никита учился в третьем классе.
Посчитав, что звучная еврейская фамилия отца в сложившихся тогда неоднозначных обстоятельствах может оказать мальчику медвежью услугу, родители решили сменить её на фамилию матери. Они посчитали, что Никита сможет лучше адаптироваться в новой школе, если его изначально не будут воспринимать как «сына того самого». Так в классе, где учились будущие Программист и Психолог, появился новый ученик Никита Голубев.
После нескольких мальчишеских разборок с «одесситом», так окрестили новичка в классе, будущие неразлучные друзья нашли между собой общий язык. С тех пор никаких секретов между ними не было, и они частенько, подтрунивая друг над другом, придумывали себе разные безобидные прозвища. Зная о сложных манипуляциях с еврейской фамилией Журналиста, они иногда дразнили своего приятеля, называя его в шутку «товарищем Голубовичем». Тот не обижался. В его крови был намешан такой генетический коктейль, что любая попытка разобраться в хитросплетениях его генеалогического древа оказалась бы напрасной тратой времени.
В роду у Никитоса были евреи и украинцы, русские и армяне. Какой-то из его дедушек был греком. Всевозможные дяди и тёти, двоюродные и троюродные братья и сёстры, с которыми родители всегда поддерживали тесные родственные отношения, часто гостили у них в Ленинграде, и так же часто принимали Никиту с кем-то из родителей у себя дома. Каждый из них внёс определённую лепту в его воспитание. Возможно, именно это и стало одной из причин противоречивости его характера. С одной стороны, он всегда был душой компании и с любым человеком умел найти общий язык, но с другой стороны, мог иногда погорячиться и наговорить лишнего. Однако обижаться на него было невозможно. Каким-то непостижимым образом ему удавалось вовремя включить своё обаяние, и все обиды тут же улетучивались.
Приятелей и знакомых у него было не счесть, но настоящими друзьями, на которых всегда можно было положиться, он считал братьев Ковалёвых и семью Сидоренко – Психолога и его жену Марину.
Он был великим спорщиком, причем мог спорить по любому поводу. Если Портос у великого Дюма говорил: «Я дерусь, потому… что я дерусь!» – то Никитосу смело можно было приписывать девиз «Я спорю, потому… что я спорю!». Иногда он увлекался настолько, что начинал противоречить самому себе, не замечая этого. Но больше всего он любил поспорить с Психологом, который своей невозмутимостью ещё сильнее его раззадоривал. В их постоянных взаимных перепалках, которые можно было назвать дуэлью эрудита со скептиком, Программисту приходилось выступать либо в роли секунданта, либо мирового судьи.
– Таки да, товарищ Сидоренко, – весело ответил Журналист. – Приходится крутиться. Реальность такова, как ты любишь повторять.
– А что, разве я часто так говорю? – удивился Психолог. – Не замечал…
– Естественно, не замечал, – усмехнулся Журналист. – Ты ж у нас кандидат противоестественных наук, отец Захарий. Матушке Марине, кстати, большое сенкью вери мач за пироги. Мастерица.
– Передам. А почему это ты психологическую науку назвал противоестественной?
– А что в ней естественного? Ковалёвы – технари, представители точных или естественных наук. А всякие социологи и прочие психологи изучают то, что невозможно взять в руки и как следует пощупать. Полуэкт в этом отношении прав: никто ещё не придумал, как измерить… ну, к примеру…
– Совесть?
– И совесть в том числе. Поэтому гуманитариев и считают представителями противоестественных наук.
– А филологов – нет?
– Ну и филологов, естественно, – засмеялся Журналист.
– Никитос, по-моему, не совсем правильно противопоставлять гуманитарные и точные науки. Наоборот, пришло время каким-то образом их объединять, – сказал Программист.
– К сожалению, коллега прав, – вздохнул Психолог. – Никто пока не собирается их объединять. Вернее, робкие одиночные попытки делаются, но большая часть психологов, в основном, занимается околонаучной болтовней, которую правильней назвать болтологией. Хотите, продемонстрирую?
– Ну-ну, интересно, – потирая руки, сказал Журналист.
Психолог поправил очки и незамедлительно выдал:
– В социальной пространственно-временной реальности не существует логически выстроенной последовательности дедуктивно взаимосвязанных законов или обобщений, но социология как полипарадигмальная наука в своей концепции допускает наличие любых объективных и символических аспектов или феноменологических конструкций.
Журналист зааплодировал.
– Браво, Псих. Я угощаю ужином каждого, кто повторит эту тираду.
Психолог поклонился.
– Увы, реальность такова, что изо всей гуманитарной братии наверх пробиваются те, кто быстрее и лучше других освоят терминологию и научатся связно болтать на всевозможные околонаучные темы. А в практических исследованиях психологи, например, теряются даже при анализе собственных поступков, если вообще задумываются о таких пустяках. Словом, критиков среди гуманитариев больше, чем самокритиков. Кстати, я – не исключение, однако я стараюсь с этим бороться.
Программист задумчиво покачал головой.
– Мне кажется, что без общего языка, своеобразного эсперанто для общения лириков с физиками, просто не обойтись. Иначе один будет рассуждать за Фому, а другой – даже не за Ерёму, а за циклофазотрон. Мужики, ну мы-то с вами, гуманитариями, договоримся? Обещаю, мы с Полуэктом не будем грузить вас интегралами от дивергенции векторного поля и постулатами из термодинамики.
– А Псих пусть пообещает, что не будет умничать, – вставил Журналист.
– А ты – перебивать, – тут же добавил Психолог. – Я думаю, что в принципе можно попытаться найти что-то общее между социологией и, к примеру, линейной алгеброй. Только я не очень понимаю, кому это интересно?
Студент поднял руку.
– Мне интересно. Мне для реферата нужно. И вообще…
– А для какого реферата? – поинтересовался Психолог.
– Наш препод по философии дал всем задание подготовить реферат на тему «Роль информации в человеческой эволюции». Кто лучше всех напишет – тому зачёт автоматом. Кстати, Захар, а о чём твоя кандидатская диссертация?
– Ну, если в двух словах, то о типах человеческой психики. Тема довольно специфическая, не думаю, что она тебе пригодится для реферата.
Идея с рефератом, видимо, родившаяся у Студента экспромтом, Программисту очень понравилась.
– А давайте попробуем вместе помочь Полуэкту, – предложил он, подмигнув брату.
Психолог почувствовал неловкость.
– Нет, ну раз вы считаете, что разговор о человеческой психике может как-то облегчить юноше жизнь, то я, конечно же, помогу, – заверил он друзей. – Просто важно понимать, Полуэкт, это тебе нужно только для того, чтобы подготовить хороший реферат, или тебе это действительно интересно?
– И то и другое. Прежде всего, я сам хочу разобраться.
– Похвально. В таком случае, это меняет дело, – усмехнулся в усы Психолог.
– Давайте так, – сказал Программист, поднимаясь из-за стола. – Я предлагаю провести небольшой цикл философских семинаров, побеседовать, так сказать, на темы человеческого бытия.
– И научно-технического прогресса, – добавил Студент.
– Ну, и прогресса. Как без него?
Журналист оживился.
– Помочь студенту – святое дело. С чего начнём? Беру на себя организационные вопросы по подготовке семинаров. Сколько семинаристок приглашать? Надеюсь, все понимают, что я намекаю вовсе не на духовную семинарию?
Программист рассмеялся.
– Спасибо, Никитос, за предложение, но давайте всё-таки попробуем обойтись без дам.
– Ну, ладно. Тогда я за пивом? Семинары без пива – знания на ветер.
Психолог неодобрительно закряхтел. Программист улыбнулся.
– Я думаю, что пиво когда-нибудь мы сами для тебя организуем. Ну как, годится, Полуэкт?
– Годится, – кивнул Студент. – Только давайте тогда и без этих… эм-м-м… без полипарадигмальных аспектов.
Психолог рассмеялся.
– Понял. Постараюсь исключить из своей речи любые феноменологические конструкции.
– Отлично! – обрадовался Программист. – Ну что, прямо сейчас и начнём? – Он смёл рукой фигуры с шахматной доски и стал складывать их в коробку.
Журналист обрадовался ещё больше.
– Ага-а-а! – торжествующе воскликнул он. – Заметь, Ковалёв, я таки не сдался!
Глава 3. Закон Времени
– Ой, что это пролетело?
– Это полгода, они часто тут пролетают…
Из Сети
– Стесняюсь спросить: на какую животрепещущую тему будет наш нынешний семинар? – поинтересовался Журналист, допив свой кофе. Судя по игривости тона, он не был настроен на серьёзную беседу. – О чем вообще можно трепать своим языком в чисто мужской, да ещё к тому же трезвой до неприличия компании. О некрасивых женщинах? Или о пользе воздержания?
– О морально-нравственном облике одного из лучших представителей советской журналистики, – в тон приятелю ответил Психолог.
Журналист, поднявшись со стула, сделал несколько разминочных движений, побоксировав воздух. Смуглый, выше среднего роста, элегантно лысеющий Журналист спортсменом никогда не был и с возрастом начал раздаваться в области живота. Однако с недавних пор, увлёкшись большим теннисом, он подтянулся и похудел. Красавцем назвать его можно было только условно, но орлиный нос, карие весёлые глаза и ямочка на мужественном подбородке никогда не унывающего Журналиста всегда нравились женщинам.
– Я всегда знал, что ты зануда, Псих. Но ты ещё и наглец! – воскликнул Журналист, развернувшись к Психологу. Совершенно неожиданно он запустил в его сторону теннисным мячиком из ворсистого каучука, который перед этим незаметно взял с книжной полки. Психолог среагировал моментально и ловко поймал мячик. Быстро перебирая его пальцами, он явно собираясь метнуть мячик обратно
– Эх… Теряю былую форму, – вздохнул Журналист. – Безалкогольный кофеин таки влияет на мою природную ловкость. Ну, что же, ваш выстрел, сэр.
– Так, стоп! Давайте сегодня обойдёмся без дуэлей! – решительно сказал Программист. – Прошлый раз вы нам с Полуэктом чуть телик не обрушили.
Журналист, глянув на часы, возбуждённо воскликнул:
– Как же я мог забыть?! Сегодня же «Зенит» играет с «Черноморцем»! Давайте врубайте свой телик, если по этой халабуде в принципе можно смотреть футбол.
Полуразобранный переносной телевизор действительно не производил впечатления устройства, способного принимать телевизионный сигнал.
– Конечно, можно, – уверенно сказал Студент. Порывшись в ворохе проводов, он чем-то клацнул, и на экране «Юности» появилось размытое шипящее изображение. Студент, вооружившись отвёрткой, принялся что-то регулировать, но канал никак не хотел настраиваться.
– Что и требовалось доказать, – печально вдохнул Журналист. – Обычное дело – сапожник без сапог. О каком научно-техническом прогрессе тут может идти речь?
– А ты за кого болеешь на этот раз, Ник? – поинтересовался Студент, орудуя отвёрткой и одновременно заглядывая в экран телевизора.
Журналист, родившийся в Одессе, умудрялся болеть и за «Черноморец», и за «Зенит» одновременно. Но два раза в год, когда эти команды встречались друг с другом, он попадал в затруднительное положение.
– Я еще не решил, – честно признался Журналист. – Поглядим. Обычно я болею за того, кто первым пропускает гол. Я рассуждаю так: если отыграются – будет вдвойне приятно, а проиграют – не так обидно. Ну что там, Полуэктус?
– Джаст э момент, плиз, – ответил Студент, ковыряясь в телевизионных внутренностях.
Безнадёжно махнув рукой, Журналист снял со стены «луначарку». Взяв эффектный аккорд, он запел приятным баритоном:
Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
– Слушай, Ник, реально классно поёшь! Хочешь, поговорю с Фаготом – он тебя запишет? – спросил Студент, продолжая возится с «Юностью».
– Куда он его запишет? – не понял Психолог.
– На магнитофон, Псих, запишет, на магнитофон, – усмехнулся Журналист, прихлопнув ладонью струны. – Ты, наверное, думаешь, что меня можно только на приём к доктору записывать?
– В Фаготовой квартире теперь что-то наподобие студии звукозаписи, – пояснил Студент. – Ребята достали микшерный пульт с эквалайзером, педальки с офигенными эффектами, сами сделали ревербератор и записывают теперь разных музыкантов.
– И что они там реверберируют? – подозрительно поинтересовался Журналист, вешая гитару обратно на стену.
Программист рассмеялся.
– Ревербератор, Никитос, – это устройство для создания пространственного эффекта в небольшом помещении. В общем, не переживай, ничего опасного.
– А-а-а… В таком случае, почему бы не записаться? Правда, не уверен, что мой баритон будет лучше звучать на ревербераторе, чем в натуре. Что ты, Псих, ухмыляешься? Мне одна меломанка именно так сказала: твой баритон, в натуре, неповторим. Нет, зря вы смеётесь. Она однажды умудрилась незаметно записать меня на магнитофон. А потом, спустя несколько дней включила запись. И шо вы себе думаете? Я таки себя не узнал. Думал – Карузо.
– Вообще-то Карузо – тенор, – с трудом сдерживая улыбку, уточнил Психолог.
– Так я и говорю – не узнал. Но дама была в восторге.
– Ну-ну. Это у тебя здорово получается – девушкам по ушам ездить.
– Псих, а шо тебя не устраивает? – приподнял бровь Журналист. – А-а-а, всё ясно! Прикинь, Полуэктус, когда-то давным-давно я имел неосторожность поцеловать Марину Сидоренко, глубокоуважаемую супругу нашего не менее уважаемого доцента. Это было сто сорок восемь лет назад, ещё до их свадьбы. Всего один дружеский целомудренный поцелуй! Но наш психический ревнивец каким-то образом об этом узнал, и теперь всю мою сознательную жизнь простить мне этого не может.
– Дурак ты, Никитос, – расхохотался Психолог. Он размахнулся мячиком, который всё ещё был у него в руках. Журналист испуганно присел.
– Стоп-стоп-стоп! – поднял руку Программист. – Ну что вы как дети малые? Полуэкт, ну в чём там дело?
– Пару сек, – сказал Студент.
Наконец он торжественно щёлкнул тумблером. Однако футбол уже закончился – большие круглые часы, появившиеся на экране «Юности», отсчитывали последние секунды перед программой «Время». Под бодрую музыку Георгия Свиридова на экране замелькали кадры телевизионной заставки.
– Ну, вот и посмотрели футбольчик. И как теперь узнать счёт? Придётся ждать спортивных новостей, – вздохнул Журналист и принялся перебирать журналы на полке.
Дикторы в студии, как обычно, поздоровались со всеми советскими товарищами и бодрыми голосами сообщили, что в Москве открылось очередное заседание Центрального Комитета КПСС и Верховного Совета СССР. Множество людей, заполнивших огромный зал Кремлёвского дворца, как по команде поднялись и стали аплодировать. Партийные руководители разного уровня, вслед за Брежневым, стали появляться откуда-то сбоку и рассаживаться по своим местам за огромным столом, стоящим посреди сцены. Диктор перечислял каждого из них, и Журналист в конце концов не выдержал.
– Полуэкт, будь другом, сделай потише. До новостей спорта – целый вагон времени, – попросил он.
Студент, не услышав ничьих возражений, убавил звук.
– Хм-м… Вагон времени… Интересная, кстати, метафора, – задумчиво сказал Психолог. – Удобная. Всегда можно сказать: я не дурака валял, а вагоны разгружал.
– Если бы в этом доме был коньяк, я бы сказал, что до спортивных новостей ещё грамм сто пятьдесят и два полноценных перекура, – пошутил Журналист. – Но, увы…
– Кстати, о времени! – обрадовался Программист. Он решил начать разговор с основных положений закона Времени, который был сформулирован незадолго до полного расформирования ГИТИКа. Тема подвернулась сама собой, и он решил этим делом воспользоваться. – Во вводной части нашего домашнего семинара о научно-техническом прогрессе неплохо бы поговорить о времени.
– А чего о нём говорить? – спросил Журналист. – Время – это такая штука, которой всё время не хватает. И чем старше становишься, кстати, – тем больше его и не хватает, – заметил он.
– Это точно, – согласился Программист. – А знаешь почему?
– Конечно, знаю. Закон подлости. Чем больше хочется успеть – тем меньше, гадство, успеваешь.
– Нет, это не закон подлости, Никитос. Это – закон Времени, – сказал Программист. – Ну что, я начну?
– Валяй, – согласился Журналист, и тут же выдал очередной каламбур: – Пока в программе «Время» не пришло время спортивных новостей, самое время поговорить о законе Времени.
– Лектор из меня никудышний, – признался Программист, – поэтому рассчитываю на ваше терпение.
– Намёк ясен, – сказал Журналист. Перебрав несколько стопок журналов на ковалёвской книжной полке и не найдя ничего более подходящего, он уселся в кресло с целой подшивкой журнала «Знание – сила».
Программист не смог сдержать улыбку.
– Это ты настолько набрался терпения, Никитос? – поинтересовался он. – Полуэкт, ты не забыл определение времени? – Студент всего лишь пару месяцев назад зубрил перед экзаменом физику.
– Время – это соотношение частот колебательных процессов, один из которых является эталонным, – без запинки выдал Студент.
– Молодец. Теперь вопрос к Захарию. Скажи мне, мой учёный друг, как социолог социологу, с чем обычно сравнивают скорость течения процессов, происходящих в обществе?
– Я думаю, это хорошо известно всем, не только социологам, – усмехнулся Психолог. – Со сменой поколений.
– Спасибо. Так вот, однажды перед учёными из моего «Руслана» поставили одну задачу… пока не будем уточнять, какую задачу: в данном случае это неважно. При её решении наши учёные столкнулись с необходимостью взглянуть на процесс человеческой эволюции с особого ракурса, с глобального, так сказать, уровня. Они сравнили между собой две частоты: частоту обновления информации в процессе развития человечества с биологической частотой смены поколений. При этом получилась довольно-таки занятная картина. Оказывается, за последние семь тысяч лет скорость информационного обмена в человеческом обществе возросла в несколько раз.
– Это как? – удивлённо спросил Студент?
– В былые времена технологии, если говорить современным языком, не менялись на протяжении нескольких веков. Или менялись, но очень-очень медленно. Это вполне закономерно, если брать любую замкнутую систему: глухую таёжную деревню или кастрюлю-скороварку. Если не воздействовать на систему снаружи, то все процессы внутри неё происходят очень медленно.
– Ну и сравнения у тебя, Ковалёв, – усмехнулся Журналист.
– Да сравнивать можно с чем угодно. Главное – принцип. Информационный обмен. Когда в обществе стал совершенствоваться процесс приёма-передачи информации, и само общество стало развиваться быстрее. Возьми, к примеру, связь…
– Глядя на вашу телевизионную халабуду, этого не скажешь, – язвительно заметил Журналист.
– Да? А ты вспомни свой первый телевизор с линзой, которая всё время протекала, – усмехнулся Программист. – Давно это было?
Журналист пожал плечами.
– А причём тут линза?
– Ни при чём. Просто мы живём в изменяющейся реальности и не замечаем, насколько быстро она меняется. Далеко ходить не будем, возьмём последние лет триста-четыреста. Жили себе люди, не тужили. Знаний, полученных в детстве, хватало им не только на свою жизнь. Полученные навыки они могли передать и детям, и внукам, а те – своим детям и своим внукам. За последние сто лет картина изменилась – внукам и правнукам свои навыки уже не передашь. А сегодня даже дети могут сами тебя чему угодно научить. Не такова ли реальность, Захарий?
Психолог усмехнулся.
– Такова.
– Одним словом, – продолжал Программист, – наши институтские математики, объединившись с социологами, всё хорошенько просчитали, и вычислили, что примерно в середине нынешнего века эти две частоты стали совпадать. И мы с вами потихоньку перевалили через этот своеобразный временной экватор и, не заметив этого, оказались в новой информационной эпохе.
– Такой торжественный момент прозевали! А в котором часу мы пересекли этот экватор, Ковалёв? – иронично поинтересовался Журналист.
– Понимаю твой сарказм, Никитос. Действительно заметить этот переход сложно. Это всё равно, что определить, пересекает ли скорый поезд границу между Европой и Азией, на секунду выглянув из окна вагона. Но, тем не менее, это так. Совпадения двух частот, как известно из курса физики, вызывает резонанс. Социологический резонанс мы, слава Богу, уже проскочили.
– Стало быть, Бог миловал? – не унимался Журналист.
– Не ёрничай, Никитос. Речь идёт о тех годах, когда всю планету потрясали мировые войны и революции, – строго сказал Программист. – И вот теперь, в новой, наступившей эпохе, обновление общества происходит всё быстрей и быстрей. И этот процесс будет ещё больше ускоряться.
– Офигительный процесс. Время, как говорится, вперёд! Мне это дело нравится, – сказал Журналист. – Кстати, я забыл спросить: а почему именно семь тысяч лет?
– А сколько, по-твоему, лет человеческой цивилизации?
– Ну, не знаю. Когда мою покойную бабушку спрашивали: «Рахиль Наумовна, сколько вам лет?» – она отвечала уклончиво: «Вы не поверите, но таки каждый год по-разному»
– Насколько мне известно, учёными более-менее хорошо описаны последние семь тысяч лет, – сказал Программист. – Я не историк, но мне кажется, что возраст нашей цивилизации несколько занижен.
– Рахиль Наумовна, упокой её душу, тоже любила занижать свой возраст. Ну, да ладно, и что из всего этого следует?
– А из всего этого следует, что к ускорению нужно готовиться уже сейчас. Ты же сам заметил, что многого уже не успеваешь? Да и я, честно говоря, тоже. Хронически не хватает этого самого времени, чтобы со всем досконально разобраться. А что будет с ними? – Программист кивнул на Студента. – А что будет со следующими поколениями?
– Ну… У каждого поколения свои проблемы… – пожал плечами Журналист. – Что тут поделаешь? Как-нибудь выкрутятся.