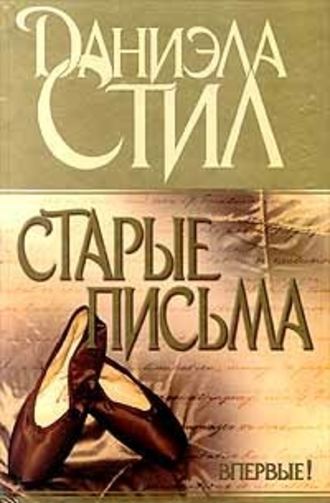
Даниэла Стил
Старые письма
Глава 10
Свой последний день в Санкт-Петербурге они провели, неторопливо гуляя по улицам, по самым любимым и памятным местам. Затянувшееся прощание внезапно превратилось в настоящую пытку, и в какую-то минуту Анна вдруг забыла, с какой стати вообще собралась уезжать. Ведь им обоим так дорог этот город, они любят эту страну – так зачем же ее покидать? Но навеянный страхом и отчаянием морок быстро прошел. Оставаться здесь было очень опасно. В России им больше нечего делать. Ни прежде, ни сейчас у них не было надежды начать тут совместную жизнь. Особенно сейчас, в самый разгар революционной бури. Но если бы не революция, кто знает, согласилась бы Мери уехать и дать ему свободу? Да и у Анны не было здесь иного пристанища, кроме балетной школы. Им предстояло отправиться на другой край земли, за тысячи и тысячи миль, чтобы обрести новую жизнь. И оба не считали предстоящую жертву чрезмерной. Правда, это не уменьшало боли от расставания… Их мало утешало даже то, что скоро Анна окажется на пути к этой новой жизни, а вскоре к ней присоединится Николай. Во многих смыслах такой план по-прежнему выглядел как опасная авантюра. А главное, Анна до смерти не хотела оставлять Николая в России.
Наконец пришло время вернуться в гостиницу, где они остановились под фамилией Николая. По дороге доктор купил газету, чтобы прочесть новости о войне, от которых впору было прийти в ужас. России грозил полный разгром, и нельзя было закрывать на это глаза.
Они заказали обед прямо в номер, чтобы напоследок не растрачивать попусту ни единого драгоценного мига вдвоем. Им предстояло еще слишком многое сказать друг другу, слишком о многом подумать и помечтать. Влюбленные не заметили, как пролетели три кратких дня до отъезда. Они почти не спали – так жалко было терять время даже на сон. Анна заранее собрала саквояжи и подготовилась, как могла. Самые дорогие и памятные вещицы давно лежали на дне саквояжей, чтобы отправиться вместе с хозяйкой в дальний путь. Кроме того, Николай отправлял с Анной два своих сундука, как будто стараясь дать ей дополнительную гарантию в том, что непременно приедет в Америку. Анна не смогла удержаться и упаковала наряды, подаренные когда-то императрицей, хотя понимала, что это будет бесполезным и болезненным напоминанием о прошлом.
Временами Анна гадала, что они смогут рассказать своим будущим детям о том, как жили и кем были здесь, в России. Наверное, для них это будет похоже на сказку – как сейчас начинает казаться ей самой. Может быть, самым мудрым решением будет вырвать прошлое из сердца, выкинуть в море все сувениры, программки старых спектаклей, фотографии, наряды и даже балетные туфли? Отряхнуть с ног прах прошлого, а не копаться в нем с болью и тоской? Нет, поступить так будет свыше ее сил. Ей и без того слишком больно расставаться с Николаем, с Россией, с Санкт-Петербургом, со всей ее жизнью.
В тот вечер они улеглись как можно раньше, но почти не спали, не выпуская друг друга из объятий. Рассвет наступил слишком скоро, и влюбленные неохотно покинули ложе, едва находя силы справиться с тоской. Анна уже начинала терзаться от предстоящего одиночества.
Пока портье выносил к экипажу сундуки Николая и ее саквояжи, Анна не могла отделаться от чувства, будто она маленькая девочка, вынужденная навсегда покинуть родной дом.
– Анна, я обещаю тебе, что приеду, как только смогу, – не важно, что будет здесь происходить. Меня ничто не удержит.
Николай, словно читая ее мысли, пытался утешать Анну всю дорогу до порта. Однако ей становилось дурно от страха, стоило представить весь этот ужасный путь в самое сердце Сибири вместе с царской семьей, а потом возвращение в Санкт-Петербург.
Николай помог ей подняться по трапу и отыскать свою каюту. Второе место должна была занять какая-то незнакомая дама, но она еще не приехала, и Анна могла первой выбрать приглянувшееся ей место. Но ей было не до этого – предстоящее плавание внезапно напугало ее до полусмерти, она отчаянно цеплялась за Николая и твердила, что умрет от одиночества и постоянного страха за него.
– Я тоже буду ужасно скучать, – с нежной улыбкой отвечал он. – Каждую минуту, каждый миг. Ты уж побереги себя, милая. Вот увидишь, я приеду к тебе очень скоро.
Они вместе поднялись обратно на палубу. В эту минуту дали свисток. Провожающим предлагалось вернуться на берег, и Николай крепко прижал Анну к себе:
– Я люблю тебя. Помни об этом. Я приеду, как только смогу. Передай поклон моему брату. Он немного скованный человек, но очень добрый. Вот увидишь, он тебе понравится.
– Я буду умирать от тоски, – шептала Анна, не в силах сдержать слезы.
– Знаю, – ласково отвечал он. – Я тоже буду тосковать. – Он приник к ней страстным, долгим поцелуем, а тем временем прозвучал последний свисток, и матросы начали убирать трап.
– Позволь мне остаться с тобой, – вдруг воскликнула Анна. – Я не хочу ехать одна! Может быть, мне разрешат отправиться с тобой в Сибирь? – Она была готова на что угодно, лишь бы быть вместе…
– Анна, ты же знаешь, что об этом нечего и думать! – Как всегда, он не стал говорить, что эта поездка попросту опасна, но это больше не было тайной. И не важно, какой ценой дастся им обоим эта разлука, – прежде всего Николай хотел, чтобы Анна оказалась в безопасности, в Вермонте, под присмотром его брата. – Просто помни, как сильно я тебя люблю, – промолвил он. – Помни, пока я сам не вернусь к тебе! Анна Петровская, я люблю тебя больше жизни… – Он называл ее этим именем в последний раз. Было условленно, что в Америке она сразу станет пользоваться его фамилией и назовется Анной Преображенской, чтобы ни у кого не возникало сомнения в том, что они муж и жена.
– И я люблю тебя, Николай. – При этом она машинально нащупала на груди тяжелый золотой медальон. Он был на месте, надежно спрятанный под одеждой.
– Мы скоро снова увидимся! – пообещал он, торопливо поцеловал Анну и сбежал вниз по сходням.
Анна припала к поручням и следила за тем, как Николай соскочил на причал и повернулся, чтобы посмотреть на нее.
– Я люблю тебя! – крикнула она. – Береги себя!
Оба замахали руками, и Анна прочла по его губам: «Я люблю тебя!»
В следующий миг огромный корабль тяжело отошел от причала, и Анна с упавшим сердцем удивилась, откуда в ней столько глупости, что она позволила уговорить себя уехать одной. В эту минуту ее решение казалось роковой, смертельной ошибкой, но она из последних сил старалась быть храброй – ради Николая. После всех перенесенных испытаний она пройдет и через это. Она позволит ему закончить все дела в России и выполнить долг перед императорской семьей, чтобы спокойно отправиться к ней в Вермонт и жить там как с женой.
Анна махала, пока могла различить на пристани его фигуру. Он так и стоял на краю причала и махал ей в ответ – рослый, широкоплечий, сильный мужчина. Человек, завладевший два года назад ее сердцем. Человек, которого она будет любить всю свою жизнь.
– Я люблю тебя, Николай, – прошептала она под шум ветра и долго еще не уходила с палубы, оплакивая их разлуку и стискивая в кулаке заветный медальон.
Она пребывала в таком смятении, что с трудом понимала, отчего, собственно, плачет. Николай был прав. Им следует смотреть не назад, а вперед, где их ждет новая, счастливая и спокойная жизнь в Вермонте. Все только начинается. И ей нечего плакать – если бы где-то в глубине сердца не таился отчаянный, смертельный страх, что она видит Николая в последний раз. Ведь этого не может быть. Она повторила, что ведет себя глупо, и подняла глаза к небу, где стремительно носились крикливые чайки. Нет, она не может потерять Николая сейчас. Такое не должно случиться. Анна тяжело вздохнула, напоследок взглянула на родные берега и медленно пошла в каюту, мысленно оставаясь с Николаем. Она будет любить его всегда, несмотря ни на что, и нет такой силы, что могла бы их сейчас разлучить.
Эпилог
Итак, все ответы лежали теперь у меня под рукой, собственно говоря, здесь они находились постоянно. Я перевела все до единого письма. Их написал когда-то моей бабушке Николай Преображенский. Они захватывали довольно большой промежуток времени и хранили историю, глубоко затронувшую мою душу, – почти так же глубоко, как наверняка когда-то трогали бабушку, хранившую их всю жизнь. Благодаря письмам я сумела разгадать тайну, окутывавшую ее прошлое.
Кое-какие подробности мне удалось выспросить у двух ее близких подруг, живших по соседству, когда я на следующее лето приехала в Вермонт, чтобы присмотреть за домом и провести недельку в обществе мужа и детей.
Платья, подаренные когда-то императрицей, все еще лежали в старом сундуке на чердаке, – а я и не подозревала об их существовании. Наверное, это был тот самый сундук, который бабушка привезла из России. Наряды выцвели и стали совсем ветхими, горностаевая оторочка пожелтела, а фасоны устарели много-много лет назад. Из-за этого мне казалось, что это просто маскарадные костюмы. Удивительно, что я ни разу не наткнулась на них во время своих детских эскапад, но сундук выглядел слишком обшарпанным и был задвинут в самый темный угол. Рядом с ним до сих пор стояли еще два запертых сундука с аккуратными табличками: «Доктор Николай Преображенский». Ей так и не хватило духу открыть их хоть раз с того дня, как она оказалась в Вермонте.
Теперь я совсем другими глазами смотрела и на пожелтевшие театральные программки, и на фотографии с другими балеринами. А балетные туфельки показались мне настоящей святыней. Я и понятия не имела о том, как много значили для нее эти забавные вещицы. Одно дело – знать, что она была когда-то танцовщицей, и совсем иное – оценить принесенные во имя этого жертвы. Когда я попыталась растолковать все это детям, их глаза удивленно распахнулись. А когда Кэти увидела балетные туфельки и услышала, что в них выступала Грэнни Энн, она не колеблясь наклонилась и поцеловала их. Бабушка наверняка бы улыбнулась при виде такой картины.
А страх, терзавший ее в течение всего плавания в сентябре тысяча девятьсот семнадцатого года, оказался не напрасным: она больше не увидела своего Николая. Он был верен долгу и отправился вместе с царской семьей в Сибирь, в Тобольск, но по дороге все они оказались в ловушке, в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. После этого ему уже не удалось получить разрешение уехать, и он оставался под арестом. Преданность лейб-медика государю императору и его родным стоила Николаю свободы, и в июле тысяча девятьсот восемнадцатого года его казнили вместе с ними. Об этом сообщалось в коротком письме от какого-то незнакомого мне человека, написанном четыре недели спустя. Представляю, какое горе испытала Грэнни Энн, читая это письмо. Даже через столько лет я не могла читать его без слез. Наверное, ей казалось, что она умрет от горя.
Однако прежде чем она узнала о расстреле, в последнем письме Николай сам предупреждал ее, что ходят слухи о близкой казни. Хотя это могло показаться жестоким, но он предчувствовал свою гибель и старался подготовить Анну к этой утрате. При этом его письмо дышало поразительным мужеством и отвагой. Николай повторял, что ей следует набраться сил, чтобы жить дальше, и вспоминать о нем и об их любви не с тоскою, а со светлой печалью. Он говорил, что успел обручиться с ней в своем сердце с самой первой их встречи, что она подарила ему самые счастливые годы в его жизни и что сожалеет он лишь о том, что им не суждено было быть вместе. Должно быть, после этого письма бабушка уже знала, что больше его не увидит. От судьбы не ушел никто – ни он, ни она. Ей была суждена совершенно иная жизнь в нашем доме в Вермонте, месте, столь далеком от всего, что связывало ее когда-то с Николаем. А ему не удалось приехать сюда, чтобы быть с ней.
И ее отец, и последний брат погибли в самом конце войны. А мадам Маркова скончалась от воспаления легких через два года после их прощания в балетной школе.
Так она теряла их одного за другим, теряла безвозвратно, теряла вместе со всем остальным – прошлой жизнью, родиной, карьерой, милыми и близкими людьми… У нее не осталось ни любимого человека, ни семьи, ни балета, бывшего когда-то ее жизнью.
И все же я не могу вспомнить в ее облике ни одной мрачной и даже грустной черты. Она никогда не выдавала, как тоскует по ним, особенно по Николаю. Наверняка временами ей казалось, что сердце ее вот-вот разорвется от горя, но я не слышала от нее ни единого слова жалобы. Она была и оставалась Грэнни Энн, со своими забавными шляпками, и роликовыми коньками, и весело блестевшими глазами, и чудесными пирожными.
Ну почему мы позволяли себя так легко дурачить? Как мы могли считать, что видим ее всю, насквозь, когда под этой внешностью крылось гораздо большее? С чего мы взяли, будто эта миниатюрная особа в вылинявшем черном платье никогда не могла быть кем-то другим? Почему нам кажется, что старики так и родились когда-то стариками? Почему мне не хватало воображения представить ее в алом бархатном платье, отороченном горностаем, или в балетной пачке и туфельках, танцующую «Лебединое озеро» перед императорской семьей? И почему она никогда ни о чем не рассказывала? Ведь Грэнни Энн всю жизнь свято хранила свои тайны…
Она прожила у двоюродного брата Николая одиннадцать месяцев до того, как пришло письмо с сообщением о казни. Как и обещал Николай, его брат оказался добрым человеком. Он был довольно суровым и скрытным, предпочитая в одиночку справляться со своей памятью и горечью потерь. По-видимому, появление в его доме юной балерины стало лучиком света. Он был старше ее на двадцать пять лет. Ему исполнилось сорок семь, когда бабушка приехала в Америку. Она могла бы быть его дочерью. И он наверняка знал, как много для нее значил Николай.
Прошло пять месяцев со дня гибели Николая и шестнадцать месяцев после ее прибытия в Вермонт, когда Грэнни Энн стала женой его двоюродного брата, моего деда, Виктора Преображенского. И я по сей день не знаю толком, любила ли она своего мужа. Пожалуй, все-таки любила. Во всяком случае, они стали, близкими друзьями. Несмотря на внешнюю суровость и неразговорчивость, он всегда был к ней добр, а она отзывалась о нем с неизменным уважением и приязнью. И все же мне непонятно, могла ли она полюбить моего деда так же пылко, как любила когда-то его кузена. Почему-то мне казалось это невероятным, хотя Грэнни Энн была искренне привязана к своему мужу. А Николай был и остался первой страстью, воплощенными грезами юности, оборвавшимися так рано и так жестоко.
То, что я узнала о ней, все еще не укладывалось в голове… Мне трудно было представить эту сказку наяву. Она была и осталась женщиной-загадкой. В мои руки попали разрозненные части: сундук… балетные туфельки… медальон… и даже письма… Но главное она так и унесла с собой: память о прошлом, победы и великую славу, людей, которых она так сильно любила. Мне было бесконечно жаль, что я успела узнать о ней так мало, пока жила с нею бок о бок. Какая непростительная небрежность!
В моем сердце будет всегда жить Грэнни Энн – такой, какой я ее помню. Та, другая женщина осталась в далеком прошлом, в сердцах тех людей, что любили ее в России. С ними осталась часть ее души, так же как она пронесла через время и расстояния частицу их любви и сохранила их в своем сердце, в письмах и медальоне. Наверное, она любила Николая по-прежнему, раз забрала с собой в дом для престарелых эти вещицы. Даже там она перечитывала его письма, а скорее всего давно знала их наизусть.
И теперь, когда я закрываю глаза, она больше не представляется мне старой… ее платья больше не черные и не выцветшие… и она не печет на кухне пирожные… Она улыбается мне ласково и гордо – в расцвете молодости и красоты… и танцует в своих балетных туфельках для Николая Преображенского, следящего за ней со счастливой улыбкой. И я верю, что где-то в ином мире есть такое место, где они наконец-то встретились и больше не разлучались никогда.






