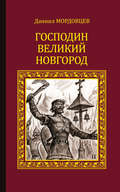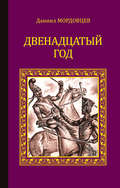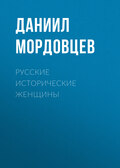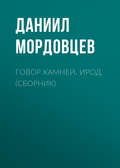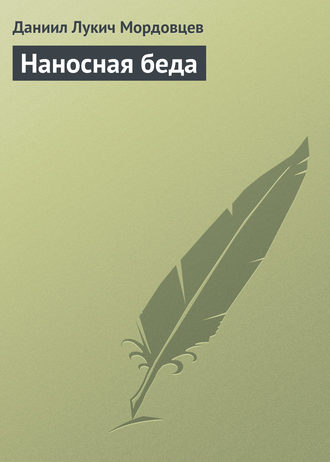
Даниил Мордовцев
Наносная беда
VIII. «Девочка забрала себе в голову»
– А девочка-то забрала себе что-то в головенку, – бормотал сам с собой веселый доктор, торопя своего возницу скорее везти его в контору государственной медицинской коллегии.
Действительно, девочка забрала себе в голову…
– Скорее бы к нему! – шептала она, томясь в горячей от ее пылающего тела постели в продолжении всей длинной, мучительной зимней ночи.
Всю ночь она порывалась открыть ужасный образок и поцеловать убийственный локон милого, чтоб сейчас и умереть тут, задохнуться, захлебнуться отчаянием и горем. Несколько раз она даже вскакивала с постели с этим безумным решением, но тотчас же, как босые ноги ее касались холодного пола, приходила в себя, вспоминала, что на этом самом образке поклялась она брату именем того, для кого она хочет умереть – хотела бы сейчас! – поклялась в том смысле, что если она изменит этой клятве, то это будет измена ему самому, его памяти, его чувству, и вспомнив все это, она со стоном прикладывала образок к горячей груди и плакала, плакала.
Эти молодые слезы и спасли ее. Утомленная ими, наплакавшись до истомы, до потери возможности стройных представлений, она к утру уснула таким крепким, мертвецким сном, который скорее можно назвать не мертвецким, а сном жизни, здоровья, каким может только спать чистая и здоровая телом и духом молодость.
Но когда через несколько дней она неожиданно узнала, что няня действительно умерла где-то, когда по осмотру тела умершей отцом и братом Ларисы, которые оба были медики, оказалось, что старушка умерла точно от моровой язвы, от чумы, когда потом до девушки стали доходить слухи о том, что это ужасная болезнь поселилась на Суконном дворе, именно там, где умерла Пахомовна, а затем стала хватать жертвы по городу, опять-таки по прикосновенности к Суконному двору и его рабочим, девушка пришла к страшному убеждению, что она явилась тут невинно тою ужасающею мир десницею гневного бога, которая налегла теперь на ее родной город, спустившись с небес моровою тучею…
К личному горю ее присоединилось теперь это ужасное сознание, от которого нельзя было не содрогаться. Она увидела себя в центре какого-то страшного кладбища, где из всех гробов вставали мертвецы и указывали на нее, на ее грудь, на которой хранилось что-то ужасающее, но ей все же дорогое. Казалось, вся жизнь превращалась для нее в одно кладбище, кругом мертвецы, а она одна только живет, хотя чувствует, что не должна жить.
И брат, и отец, которого она очень любила, но которого, вечно занятого больными в своем госпитале, она редко видела, по-видимому, избегали с ней разговоров о том, что делается в городе. Отец, впрочем, когда брат, после смерти няни, рассказал ему историю с образком и волосами, хотя и успокоил ее, что, быть может, образок тут ни при чем, однако осмотрел его и окурил; но, не имея сил ни в чем отказать своей любимице, хотя и не уничтожил его, тем не менее запер в ее шкатулку и ключ спрятал у себя.
С каждым днем девушка все более и более убеждалась, что в городе очень не ладно. Все это еще более сгущало тот мрак, который налег ей на душу. Она буквально на находила себе места, стала молиться, но и молитва не приносила ей ни утешения, ни облегчения: на душе оставался все тот же мрак… Да и о чем она могла молиться? Как? Просить? Но о чем? Ей не о чем было просить. Жаловаться? Но на кого, на что, а главное, кому? Плакать перед образами, до утомления биться об церковный пол, об пол своей маленькой спальни? Она плакала, не чувствуя облегчения, и колотилась об холодный, каменный помост церквей; но и в сердце, и в голосе оставалось все то же…
Раз отец, видя ее тоскующей, молчаливой, не вытерпел, заговорил с нею за утренним чаем.
– Бедный мой ребенок! Все о нем думаешь?
– Нет, папа, не думаю.
– Как же не думаешь? Али я не вижу?
– Я сама не знаю, папа.
– Ну, тоскуешь, в душе сохнешь, это еще хуже. Я понимаю это, моя бедненькая: я сам то же испытывал, когда умерла твоя мать. Ведь мы с нею только два года жили. Тебе пошел второй годок, как она скончалась, а Саня только родился. Ну, я и обезумел было от горя, забыл даже про вас. Только покойница Пахомовна напоминала мне о вас. Тебе и «Пахонину» жаль, дружок?
– Да, папа, жаль.
– Ну, вот что, «Пахонина», иди-ка лучше ко мне на руки, я кой-что скажу тебе, – ласково привлек он к себе свою любимицу.
Девушка повиновалась и, обхватив руками шею отца, заплакала. Ей даже показалось, что эти слезы как будто в первый раз облегчают ее.
– Ну, ничего, ничего, моя «Пахонина» бедненькая, – шептал отец, гладя черную головку дочери. – Поплачь немножко… А ты давно видела свою «курносенькую беляночку»?
– Какую, папа? – спросила девушка, продолжая сидеть на коленях у отца и смутно чувствуя, что это первое единственное кресло, сидя на котором она в первый раз почувствовала что-то похожее на облегчение.
– А «Белая березонька?» – отвечал он, улыбаясь.
– А… Настя… Я давно не видела ее. Забыла…
– Как забыла, дурочка?
– Я все забыла, папа. – И девушка снова заплакала.
– Ну, ладно… А все бы сходила к своей «Белой березоньке», поразмыкалась бы. Да?
– Да, схожу, папа.
– Ну, и ладно.
«Курносенькая беляночка» тоже ждала кого-то из армии… Она не знала только, что этот кто-то тоже рвался увидеть кого-то, да опять бы в «сенцах» встретиться, как и тогда.
…Ночь была летняя, светлая. Сирень так хорошо пахла. В соседнем саду так без толку неугомонно почему-то щелкал соловей – верно, просто по глупости щелкал и вовсе не хорошо щелкал, как и все соловьи; но всем почему-то казалось, что он хорошо щелкает, по душе и по нервам щелкает, и все слушали его, украдкой поглядывая, молодые сержантики на молодых барышень, молодые барышни, с величайшей осторожностью, на молодых сержантиков. Ну, одним словом, пустяки: молодая глупость и молодое счастье, счастье неведения, но такое хорошее это глупое молодое счастье… И соловей глупо щелкает, и сирень глупо пахнет, а хорошо всем. Говорили молодые сержантики о том, что скоро война с турками будет, что их, вероятно, пошлют на войну. Молодые сержантики говорили, а у молодых барышень сердца немножко сжимались, ну, понятно, по глупости…
Потом молодые сержантики стали прощаться с молодыми барышнями, уходя из палисадника. Всем нужно было проходить темными «сенцами», вот тут-то и являются эти «сенцы». Ох, уж эти темные «сенцы»! Выходя из палисадника и вступая в сенцы, один молодой сержантик почему-то, конечно, по глупости, все держался около «курносенькой беляночки», а «беляночка» почему-то, опять тоже по глупости, незаметно – будто бы незаметно! – держалась около этого черномазого сержантика… В «сенцах» они нечаянно еще более приблизились друг к другу, потому темно, ничего не видать, и ах! Нечаянно, конечно, нечаянно, ненароком, руки их встретились в темноте и нечаянно, да так-то быстро, судорожно пожали одна другую, и только. Ведь глупость это, пустяки ужасные; ан нет, для них не пустяки. Между ними не было ни одно еще слово сказано такое, которое показало бы, что… и так далее… Были только взгляды, метанье искр – но что такое это метанье издали! Вздор! А тут не издали, тут руки нечаянно встретились в темноте, и лапища молодого, но здоровенного сержантика по-медвежьи сцапала пухленькую ручку «беляночки», которая, в свою очередь, словно лапочкой котенка, пожала сухую, жилистую лапищу сержантика. Вот и все! А поди ты: эти «сенцы» гвоздем засели в памяти глупых детей. Под рокот и гул ядер, под свист пуль, под стоны раненых там, в Турции, молодому сержантику вспоминались эти «сенцы» и это глупое щелканье соловья, да и «беляночке» тоже. Глупые дети!
А тут новое что-то, страшное висит над Москвой. Чаще и чаще раздаются в московских церквах звоны «на отход души». Каждое утро по всем церквам слышатся душу надрывающие перезвоны «на вынос», «на погребение».
Лариса исполнила совет отца. Напоив его и брата чаем, она проводила их за ворота: отец отправился в свой госпиталь, к своим обычным занятиям, а брат ее Саня в лекарскую школу, где он учился, избрав по своей собственной склонности ремесло отца, медицину.
Проводив их, Лариса заказала кухарке обед с тем, чтобы на жаркое была телячья печенка, «папочка ее любит», сделала необходимые распоряжения по хозяйству и велела, кроме того. Клюкве (так звали девочку, прислуживавшую Ларисе, за ее необыкновенно красные щеки) сбегать к обеду за грушевым квасом, до которого папочка тоже был большой охотник.
– В Сундушный ряд, барышня? – весело спросила девочка.
– Зачем в Сундучный?
– А за квасом грушевым, барышня.
– Что ты, Клюковка! Сундучный ряд далеко.
– Ничего, барышня, я сбегаю.
Лариса оделась и вышла на улицу. Апрельское солнце начинало уже пригревать. У заборов, на проталинах, из земли уже выглядывала зелень, не то новые стебельки молодой травки выползали на свет Божий, не то прошлогодняя зелень, спавшая всю зиму под снегом, просыпалась теперь и поглядывала на солнышко: так ли де оно «светит теперь, как в прошлом году светило?». Да, так-то так, только горя людского оно освещает теперь больше, чем тогда освещало…
Серединою улицы едет телега, везомая водовозною клячею. На телеге белеется новый сосновый гроб, прикрытый ветхою-преветхою черною пеленою с некогда белыми, а теперь совершенно захватанными и загрязненными, нашитыми по углам пелены крестами, символом нечеловеческого терпения. Впереди телеги, видимо усталыми ногами, бредет знакомый уже нам «гулящий попик» в черной, донельзя ветхой ризе, тоже с белыми, от времени и частого употребления потерявшими всякую мишурную блесткость крестами, символом Божественного милосердия. В руках у попика медный, как и сам попик, потертый временем отшлифованный лобызающими устами верующих, благословенный крест, великий и горький символ спасения. Попик время от времени возглашает что-то слабым, дребезжащим, как слабо натянутая на медной деке старых гуслей металлическая струна, голосом. Слышится по временам: «Житейское море», «К тихому пристанищу», «Многомилостливое». Да, житейское море, о! Какое оно бурное подчас и какое мертвенно-тихое, но страшное, как вот и теперь. И «тихое пристанище» – такое тихое, каким только может быть глубокая могила.
На телеге сидит вощаной человек, весь в вощаной одежде, «мортус», у которого только клок рыжей бородки торчит как-то вкось из-за вощаного башлыка-наличника. В руках у этого страшного возницы вместо бича, кнута или хворостины длинный багор. Эко какое знатное весло Хароново[25]! Тот своим веслом отпихивался от берега жизни и причаливал к берегу смерти, к вратам Аида. Этот своим багром зацепляет то, к чему боятся уже прикоснуться руки человеческие, и спихивает в глубокую яму. Багор торчит вверх своим крючком, словно громадный коготь громадной хищной птицы. Да, это знакомая птица: та, что сердце Прометеево терзала[26]. И эта терзает тело Москвы, выхватывая, словно куски сердца, несчастные жертвы, еще вчера жившие и думавшие, но выхватывает не за похищение Божественного огня с неба, а за недостатком в людях этого огня, за пренебрежением им, за их невежество, за нечистоту, за бедность, без конца бедность. Торчит хищный коготь, вот-вот кого-нибудь снова зацепит.
Да вон кого он хочет зацепить: за телегой, за гробом бежит девочка лет семи-восьми и горько плачет, надрывается.
– Пустите меня к мамке, я к мамке хочу! Я с ней хочу лечь!
– Нишкни, не подходи близко! – ворчит «Харон» с багром. – Зацеплю.
И багор направляется к заду телеги, грозит плачущей девочке.
Телега с гробом повернула за угол и скрылась. Лариса ускорила шаги. Позади ее что-то катилось с грохотом и слышались возгласы: «Гись! Гись!» Это мчалась коляска с двумя верховыми казаками позади. В коляске сидел кто-то важный, зорко посматривая по сторонам. Лариса где-то видела это строгое лицо. Ах, да! Тогда, когда она ходила к Василию Блаженному и встретила доктора Крестьяна Крестьяныча, тогда этот важный барин ехал из Кремля.
– Еропкин енарал сам, – торопясь снять картуз, пробормотал какой-то купчина, стоя на пороге своей лавки. – Ишь, язву ищет. Сунься, пымай ее, скептически ворчал купчина. – Не чиста Москва, слышь… Сам – чист…
Еропкин промчался молнией. Лариса шла, не подымая головы и думая горькую думу. Но странное сердце человеческое, девушка в то же время думала и о телячьей печенке, которую «папочка любит», и о грушевом квасе из Сундучного ряда.
– Здравствуйте, милая девочка! – раздался вдруг ласковый знакомый голос.
Девушка вздрогнула и оглянулась. Это был веселый доктор, ехавший на паре ямских.
– Куда порхаете, птичечка Божья? – продолжал доктор.
– К Насте иду.
– А, «Беляночка» – то! Кланяйтесь ей. А я все к вам никак не попаду, вот все за чадушком своим гоняюсь, – и доктор указал рукой по тому направлению, куда ускакал Еропкин. – Все ловим незваную гостью, пусто б ей было! А папочка?
– Здоров, Крестьян Крестьяныч.
– И все так же печенку любит?
Девушка улыбнулась.
– А! Это хорошо. Прощайте, девочка хорошая. Мне некогда, мне дела и умереть не дадут.
Он гикнул на ямщика и помчался. Опять гроб тащится по улице; но уже без попа, без крестов, но с мортусом и багром. Какая, должно быть, бедность страшная! Да это и видно по тому рубищу, которое надето на человека, идущего за гробом, но не плачущего, глаза сухие, но какие! Что в этих глазах сидит! Уж лучше бы они плакали, легче бы было видеть…
Прохожие снимают шапки и крестятся, качая головами. Нет-нет да и опустится у иного прохожего рука в карман, пошарит там, и на мостовую у ног идущего за гробом и не плачущего человека звякнет то копейка, то грош, то пятак, звякнет вместо колокола, который и не звонил по умершему бедняку. Опять крестится. Идущий за гробом тоже крестится, нагибается и подбирает даяние «на помин души». Надо брать!
– Эх, жисть! – слышится в стороне.
И девушка бросает свою монетку, но так неловко. Тихо звякает об камушек что-то серебряное, тот, однако, замечает, крестится и нагибается.
А из растворенной двери кабака какой-то пьяный запорожец (и как его занесло в Москву!) длинной хворостиной гонит какую-то бабу, верно, гулящую, и, притоптывая, выговаривает:
– Гей, жинко, до дому!
Какая страшная мешанина жизни и смерти! Лариса бегом убегает от этого зрелища.
Настю она застала дома.
И Настя похудела за это время. Ростом она была ниже Ларисы, которая смотрелась довольно высоконькою. И характером они рознились одна от другой, как и лицами: на прозрачном, еще детски-кругленьком, не удлинившемся до длинноты возмужалости личике Насти и в ее голубых, таких же прозрачных и светлых глазах отражалась ее, если можно так выразиться, прозрачно-чистая душа, ее откровенность, быстрая восприимчивость и такая же впечатлительность, болтливый розовый ротик постоянно обнаруживал частые, белые и мелкие, как у мышонка, зубы; у Ларисы же на смуглом, матовом лице и в больших черных, с большущими белками, но как будто усталых глазах не все отражалось, что шевелилось под черною, обвитою в два жгута вокруг головы косою и под лифом черного платья, она была сдержаннее своей пучеглазой подруги, молчаливее, замкнутее и поглубже по самому содержанию.
Настя очень обрадовалась своей подруге и тотчас поведала ей свое горе. Два молодые сержантика были зимой в Москве, но она их не видала, они лежали в госпитале, и их оттуда не выпускали в город. Но он, понятно, кто он: черномазый и сероглазый Рожнов Игнаша, он прислал ей поклон. От него приходил какой-то рыжий солдат с красными бровями и с черной косматой собачонкой, которую он называл Малашей и которая, как он говорил, «на турка ходила» и под Кагулом «на самого везиря лаяла». Потом Настя с матерью ездила на святки к родным в Кусково и там прожила до апреля. А когда воротились в Москву, то сержантов уже не было в городе, и где они, она не знает…
– Верно, опять на этой войне. Господи! Когда она кончится! заключила она со вздохом. – А скоро опять весна начнется, скоро сирень зацветет. (В прозрачных глазах ее ясно отразились темные «сенцы».) А ты, Ларочка, давно получала от Александра?
Лариса сидела как мраморная, опустив глаза и о чем-то думая. Какою детскою наивностью звучали для нее слова ее подруги! Как она сама выросла за эти месяцы, ох, как выросла! До могилы доросла…
– Давно, Лара?
– На святки, – чуть слышно отвечала Лариса.
– Что же он пишет? Скоро приедет?
– Нет, он никогда уже не приедет.
– Как! Отчего, Ларочка?
– Вместо себя он прислал локон своих волос.
– Вот какой! Но и это, душечка, хорошо. А у меня и локона его нет. Хоть я знаю, что он любит меня, но он еще ни слова не сказал мне об этом. Он такой застенчивый. А твой отчего же не едет? Не пускают?
– Он умер, Настя.
Сначала Настя как будто не поняла своей подруги. Она думала, что ослышалась, что та шутит. Но когда увидела, что Лариса сидит бледная, как потемневший мрамор, и из-под опущенных ее ресниц выкатились две слезы, тут только рассмотрела она перемену, происшедшую в ее друге с тех пор, как девушки не видались. Настя сама побледнела, ее живое личико отразило на себе и страшный испуг и глубокое горе… Она подошла к склоненной голове Ларисы, тихо взяла ее в свои руки и, припав к этой черной, скорбной головке, только заплакала, не находя слов для утешения. Да и какое тут утешение в то время, когда больше чем руку отпиливают!
Молча они плакали обе. Наплакались вдоволь.
– Что же? Как же теперь? – не знала что спросить распухшая от слез Настя, когда слезы были выплаканы.
– Не воротишь уже, – тихо отвечала Лариса покорным голосом.
– Да, не воротишь. Боже, Боже!
– Но я… надумала, – еще тише сказала Лариса.
– Что, душечка? – встрепенулась Настя.
– Я хочу видеть его могилу.
– А где она?
– Не знаю, в Турции где-то…
– Да как же ты найдешь ее, милая?
– Я разузнаю от Крестьяна Крестьяныча, он хоронил его.
– Он! А он здесь?
– Здесь… кланяется тебе.
Лариса замолчала. Подруга не узнавала ее. И прежде Лариса была много серьезнее ее, характерная такая, а теперь в ее словах, в ее голосе слышалась какая-то упрямая уверенность и твердость.
– Как же ты, душечка, попадешь в Турцию? – спросила Настя, хотя и верившая всегда в Лару, что та даром слов не говорит, но тут и она не знала, что думать. Турция далеко…
– Меня повезут туда! – спокойно отвечала Лариса.
– Кто же, милая, повезет-то? Твой папаша?
– Нет, вот что, Настя. При армии, за больными и ранеными ходят иногда монахини и другие женщины. Я сделаюсь сиделкой. Я уже об этом думала. Туда принимают только тех, которые уже сиживали в гошпиталях. Я поступлю здесь в главную сухопутную гошпиталь, где Саня учится, и там научусь ходить за больными. Теперь уже у нас нужны сиделки: вон что начинается в Москве! Меня примут. А там я попрошусь в армию. А тут я теперь не жилица на белом свете!
Последние слова были сказаны с горечью и силой. Настя сидела не шевелясь, вся пунцовая, она тоже забирала себе что-то в голову.
– Так и я с тобой, Ларочка, пойду, – сказала она нерешительно. Возьмешь меня?
Лара молча и серьезно посмотрела на нее.
– Ты не шутишь? Обдумала?
– Не шучу. Я… – Настя еще больше покраснела.
– Подумай. Это не шутка.
– Я… я не могу жить без него, – сказала она порывисто, и светлые глаза ее потемнели. – А там, в Турции, с тобой я найду его, может быть, раненым…
В соседней комнате послышались шаги. «Маменька идет», – шепнула Настя, бледнея. Девушки прекратили разговор. Да оно и кстати: на улице пьяные голоса отхватывали:
Полоса ль моя, полосынька,
Полоса ль моя, непаханая…
Песни, рыдания, смех, слезы, похоронный перезвон, «сенцы», могила, мор – все это разом валится из мешка жизни. Только расхлебывай!
IX. Сказание о «Пифике». Встреча
На другой день утром, сойдя с своего мезонинчика вниз, к чаю, Лариса застала там веселого доктора. Крестьян Крестьяныч разговаривал о чем-то с отцом и братом. При входе Ларисы они, видимо, замяли разговор и переглянулись. Девушка со всеми поздоровалась. Она смотрела как будто бодрее, спокойнее.
– Ну, Ларивон Ларивоныч, напой-ка нас чаем, да хорошенько, – сказал отец, ласково целуя ее в голову.
– Да саечку свеженькую, милая хозяюшка, нельзя ли? – прибавил веселый доктор, потирая пухлые свои ручки.
– А какую. Крестьян Крестьяныч? – спросила девушка. – Заварную или с изюмом?
– Заварную… заварную-с… А можно и с изюмом эдак, не претит и это.
У дверей стояла краснощекая девочка и во весь рот улыбалась, глядя на веселого доктора.
– Что, Клюковка, тебя еще воробьи не склевали? – обратился к ней веселый доктор.
Девочка прыснула со смеху.
Брат Ларисы, Саня, юный лекарский школьник, заметил:
– Вашим больным. Крестьян Крестьяныч, должно быть всегда очень весело.
– Очень… Очень! Так всегда и заливаются со смеху, а теперь и удержу им нет.
Лариса командировала Клюкву за сайками и села разливать чай.
– А как «Беляночка» поживает, хозяюшка? Не замужем еще? – спросил доктор.
– Нет, – тихо сказала Лариса, не глядя на доктора.
– Ну, ничего, подождет…
– Не до женитьбы теперь, – заметил отец Ларисы.
– Отчего же, коллега? Самое как есть время… Вы все про болезнь-то эту? Э! Пустое! Она веселья боится, такая погань, я вам доложу… А знаете что, коллегушка? – спросил веселый доктор серьезно. – Раскусили вы эту шельму, а?
– Какую, язву, что ли?
– Ее, каналью… Ведь она у нас доморощенная: ну, вот точь-в-точь как всегда на Москве были сайки, да грушевый квас, да Царь-пушка, так всегда была у нас и чума…
– Вы шутите, товарищ?
– Нет, порази меня Царь-пушка, коли я шучу… Мы ее как сайку делаем. Я докладывал об этом и своему генералу.
– Еропкину?
– Еропкину, и он согласился со мной. Мало того: его превосходительство изволило заметить, что почти то же говорит и преосвященный Амвросий, только языком ветхозаветным, а я говорю языком этой шельмы медицины. Пестис у нас, батенька, на Москве растет целыми бакчами, как дыня в Астрахани. Я вчера и его превосходительство Петра Дмитрича возил на наши чумные баштаны, так диву дался: дыньки-то уж зреют, батенька… Генерал так и об полы: «И как-де только мы и живы поднесь!»
Атюшевы, отец и сын, и Лариса с удивлением и улыбкою смотрели на веселого доктора.
– Вас, товарищ, никогда не разберешь, шутите вы или материю говорите, – улыбаясь, заметил Атюшев-отец.
– Я, батенька, всегда материю говорю, всерьез, – отвечал веселый доктор и при этом сделал такое лицо, что молодой Атюшев невольно засмеялся, а Клюква, воротившись с сайками, прыснула со смеху и уронила корзинку на пол.
Веселый доктор, держа ломоть сайки перед молодым Атюшевым, сказал:
– Ну, младой эскулап, позвольте вас маленько пощупать, проэкзаменовать-с эдак малость, ась?
– Извольте, Крестьян Крестьяныч, я повинуюсь вам, – отвечал с улыбкой молодой Атюшев.
Веселый доктор скорчил мину экзаменатора.
– Что есть, государь мой, моровая язва?
– Моровая язва – пестис, есть особого рода болезнь, всех других опаснее, сильно прилипчивая контариоза и, производя наружные знаки на теле, как-то: бобоны, карбункулы, апараксес и малые черные пятна, петехии, скоро и по большей части предает смерти, – отвечал молодой Атюшев по-заученному.
– Изрядно, государь мой. Определите источник болезни.
– Источник сея болезни, по примечанию разных писателей, находится в самых жарких местах, в Индии, в Африке, а особенно в Египте. Яд моровой язвы не только прилипает к телам человеческим, но и ко всяким вещам. Сия прилипчивость причиною, что моровая язва в отдаленнейшие и холоднейшие страны переходит и, рассевая чрез прикосновение ядовитое семя, бедственные производит действия.
– А мы откуда сию болезнь получаем?
– Из Царьграда: Царьград и прочие в турецких областях торговые места, по превратному у турков правилу, по которому они все приписывают правлению слепого рока, почти всякий год претерпевают от язвы немалый в людях урон.
– Изрядно, изрядно… Итак, мы и существо сея шельмы, и источник знаем… А где сия шельма пестис зарождается и отчего? Кто ее сеет? Кто пахарь? А плесните мне, барышня, еще. (Это уже к Ларисе.) Ну-с, где оная рождается?
– Доселе известны были медицине три главных гнездилища сей язвы, и по оным гнездилищам оная и именуется: пестис индика имеет своим гнездилищем Индию, пестис левонтана имеет гнездилище в Малой Азии и Леванте и пестис Египта – в Египте, в Каире. Там он вырастает.
– Изрядно, сударь мой. А где вот эта сайка выросла? А? Откуда она?
– Из Обжорного ряду, барин, – поторопилась Клюква.
Все рассмеялись. Сконфуженная девочка спряталась за дверь.
– Изрядно, изрядно, Клюковка. Обжорный ряд – это своего рода Каир. А где финики растут?
– В Африке, кажется?
– Изрядно, в Африке, где и чума же… А на Таганке вырастет финик?
– Нет, не по климату.
– Изрядно-с. А слон где родится, государь мой?
– В Индии, Крестьян Крестьяныч.
– Преизрядно. А на Кузнецком мосту слон водится?
– Не видал, – юноша рассмеялся.
– Ну, дело. Теперь опять к шельме пестис перейдем… Говорят, что ее к нам занесли из Турции. Ладно! А занесите-ка на Девичье поле финик, примется он?
– Известно, засохнет и не примется.
– Тоже, думаю, тут ему не место. Ладно. Пойдем далее. Значит, все можно занести в Москву: и слона, и финик, да жить-то они здесь не могут, вымрут… Ну-с, еще далее пойдем. Говорят, пестис занесена к нам из Турции вместе с финиками, изюмом да еще там кое-чем… Ну, тут бы ей и капут. Так нет! Она, шельма эдакая, преспокойно растет и множится. Ясно, что попала на родную почву, для нее, подлой, что Индия, что Египет, что Левант, что Москва, все едино… А отчего вот она, бестия, не растет в Лондоне али бы в Париже?
– Когда ее занесут, Крестьян Крестьяныч, так она и там будет расти, горячо отвечал юноша, – вон в XIV веке, читал нам Шафонский, она всю Италию и Францию прошла, а в Марселе так ни единого человека в живых не оставила.
– Изрядно, государь мой. Это оттого, что тогда Париж был то же, что наша Москва-матушка, а Марсель – все едино, что наш Суконный двор… Для этой шельмы пестис, значит, тогда почва была благоприятна по всей Европе. Это ныне ее оттуда помелом гонят, вот что. А к нам она вон пришла как в свой дом, полной хозяйкой, как вот барышня милая здесь. А отчего? Оттого, что мы – Индия, государи мои, Москва-река – сей священный Ганг, а Яуза с Неглинной – это такие Тигр и Евфрат, что в них рыба дохнет… Вот что, милая девочка! – обратился он вдруг к Ларисе.
Девушка невольно вспыхнула. Атюшев смотрел на веселого доктора серьезно.
– Да, в ваших словах есть доля правды, – задумчиво сказал он.
– Не доля, коллегушка, а полна шапка правды. Я так и Еропкину докладывал, когда мы навещали наших суконщиков да прочих фабричников. Поняли вы эту сказку, милая девочка? – вдруг обратился он опять к Ларисе.
У Ларисы на глазах блестели слезы.
– Поняла Крестьян Крестьяныч.
– То-то же. А то какая-то сорока на хвосте принесла, якобы из Турции некии младые сержанты привезли к некоей отроковице образок с волосами умершего их друга, и от этих якобы волос пестис по Москве пошла, слоны по Кузнецкому мосту забегали, у Власья целые финиковые рощи расцвели.
– А как же, Крестьян Крестьяныч, няня-то умерла? – робко спросила девушка.
– Няня-то, «Пахонина», милая девочка? А где захворала «Пахонина»? У сторожа церкви священномученика Власья. А кто в семье у сторожа-то был? Суконщики, фабричники, парии наши. Не няня заразила их, а они огорченной старушке на шею пестис повесили, да и сами перемерли… Вот что, девочка хорошая.
Веселый доктор замолчал. Все сидели такие же задумчивые. Мерно щелкал только маятник часов, да изредка с улицы доносились роковые каноны: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею»…
– Эх, кабы я был богат, – со вздохом сказал веселый доктор.
– А что? – спросил Атюшев-отец.
– Я бы еще чашечку испил.
– Так я вам налью, – поторопилась девушка.
– Плесните, милая барышня.
Лариса, вся пунцовая, несмотря на свою смуглоту, задумчиво наливала чай и недоуменно посматривала то на отца, то на брата.
«Житейское мо-о-ре!»…
– Эх, кабы я был богат! – снова вздохнул весельчак.
– А что? – улыбаясь, спросил Атюшев.
– Уснул бы, ух, как уснул бы! Всю ночь не спал, с Еропкиным да с больными возился. А там, к утру, его сиятельство, граф Салтыков, обер-полицмейстера присылает за мной, «по самонужнейшему делу», говорят. Испугался я: «Что такое, говорю, что случилось?» Флора, говорят, занемогла: не ест ничего…
– А кто эта Флора, Крестьян Крестьяныч? – участливо спросила Лариса.
– Собака любимая у графа…
А на улице опять: «Житейское море!..» Веселый доктор посмотрел на часы и быстро встал.
– Ну, прощайтесь со мной, – сказал он, подавая руку хозяйке и целуя ее руку. – Прощайте, друзья. В Индию еду, в Симонов монастырь…
И веселый доктор торопливо вышел. Заехав на минутку к Еропкину, у которого он состоял в личном распоряжении, веселый доктор поскакал в Симонов монастырь. Проезжая мимо Варварских ворот, он с видимым неудовольствием хмурился. С каждым днем толпы черного народа, мастеровых и сидельцев кучились в разных пунктах города все более и более. У разных часовен, у ворот городских, у всех почти икон, которых так много выставлено на всех улицах Москвы ради лобызанья и ставленья воскояровых свечечек с грошовыми кружечными и тарелочными сборами, на всех площадях шло непрестанное всемоление либо благочестивое разглагольствование.
– Вот и приходит к нему, к попу Мардарью, что у Троицы в Сыромятниках, пифик…
– А кто же он, этот фифик, батюшка?
– Не фифик, а пифик.
– Пи-фи-фи-фифик… Ишь, мудреное слово какое!
– Приходит этот пифик к попу Мардарью в образе старца и говорит: «О горе! Горе! Горе великому граду Москве!»
– Ох, Господи! Что же это будет!
– А ты слушай. «Горе, говорит, Москве… Пошлет на нее Бог каменный дождь, и избиет тот дождь велику живу душу, и скот, и птицу, и всех людей даже до сосущих младенцев…»
– Ох, святители! За что же, отец родной?
– А ты не перебивай… «И пошлет Бог, – говорит оный пифик отцу Мардарью, – огненную реку на Москву, и потечет оная река от Чудова монастыря Спасскими воротами до Лобного места, а от Лобного места потечет вниз под гору мимо Свечного ряда, да на Яблочный ряд, а от Яблочного ряда потечет та река чрез ряды Травяной и Семенной, и Рыбной, а из Никольских ворот потечет та река мимо рядов Ножового и Сайдачного[27], Шорного и Колокольного, Железного и Монатейного[28], Кружевного и Ветошного[29], а Иконный ряд не захватит, потому что иконы там. Да потечет та река мимо рядов Игольного, Кушачного, Овощного, да через ряды Суровской[30] и Сапожный, Зеркальной да Панской[31], Охотный да Голичный».
– Батюшка! Все ряды переберет! За что же, родной?
– А за грехи, за немоленье.
– Мы ли, батюшка, не молимся! Кажись, денно и нощно.
– Мало, без усердия, не с чистым сердцем.