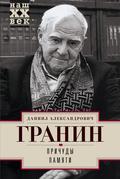Даниил Гранин
Последняя тетрадь. Изменчивые тени
«Н.Н. был мальчик…»
Н.Н. был мальчик, когда немцы в местечке собрали всех евреев, выстроили у обрыва и расстреляли. Жителей заставили закопать. Его, мальчика, ему было уже 10 лет, тоже послали закапывать.
«Соседка Люба хорошо знала немецкий. Ее взяли в гестапо машинисткой. Она подкармливала нас – мать, бабушку, детей. Однажды она сказала маме: я печатала списки на расстрел, там вы с детьми как семья комиссара. Бабушка запрятала нас троих в ледник. Мы отсиделись там месяц, пока немцы не стали отступать. Пришли наши. Любу сразу схватили, потому что служила в гестапо. Мама хлопотала, и другие тоже, она спасла не только нас. Не помогло. Ее приговорили к 25 годам лагерей, там она вскоре погибла.
Отца моего – за то, что в окружении уничтожил штабные документы, – отправили в штрафную роту. Я возненавидел и немцев, и наших одинаково, все они палачи, звери. И до сих пор не вижу разницы».
* * *
…В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета, с земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шпарил еще треск пулеметов, пули взвизгивали о металл, дырявили землю, я обещал Боженьке верить в него, всегда и везде, ничего другого я не имел и протягивал ему свой жалкий дар.
Не стоит строго осуждать меня; в конце концов, я ничего постыдного не совершил, но в моей жизни эти минуты остались неубывающим презрением к себе, я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня. Тогда, на станции Батецкой, вся моя двадцатилетняя жизнь стала вдруг небывшей, от нее осталось лишь то, что не состоялось, неосуществленность. Никто не думал, что воевать будет легко. В Летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти, кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная, ничего не успел, а меня уже превратили в ничтожество, ничего не осталось, никаких иллюзий, мечтаний, планов, все сгорело. И мое самомнение… Передо мной всегда будет смрад моей трусости.
– Вста-а-ать!..
Меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии.
Губы мои дрожали, по грязному лицу текли слезы.
– Ну что? Живем? – сказал Подрезов.
И оттого, что он сказал это дружески, утешливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве: я весь сотрясался, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал.
– Молчать! – крикнул ротный и со всего размаха влепил мне затрещину.
– Товарищ командир! – Подрезов покачал головой.
– Что с ними делать? Что? – закричал Авдеев. – Возись, твою мать! Дерьмо и сопли! На что мне такие? – Он закрыл глаза, задышал глубоко.
Подрезов, высокий, костлявый, приобнял меня, заговорил глухим мерным голосом:
– Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался, тоже ведь впервые.
Обыкновенные слова, запах свежей гимнастерки и свежей кожаной портупеи успокаивали.
– Вы на ротного не обижайтесь. У него четверых убило. Ему роту собирать надо.
Небо, украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно неповрежденное небо, в котором уж появились птицы, мошки. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи, но летний полдень возвращался к своим обязанностям. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать, привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяется, будто ничего не случилось, как женщина – губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день – он обновился, и в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же:
– Ой, возьмите меня! Возьмите меня!
Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним не отпуская.
– Я не трус, вот увидите. – Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева. Первое, что я получил на войне… Где наши самолеты? Хоть бы один! Шинельная скатка, вещмешок, ремень брезентовый – все перекрутилось, рубаха вылезла, счастье, что я себя не видел, никогда бы не мог забыть это жалкое зрелище. И как я бежал за Подрезовым, лепеча свои оправдания.
Дойдя до машины, Подрезов остановился, его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня, они требовали ответа – откуда немец знал о прибытии эшелона, ведь знал, знал минута в минуту!
– Следили, может, по воздуху, – сказал Подрезов.
– Предатели – вот откуда! Ясное дело. Шпионы… Сколько перестреляли, все мало.
Никто не сомневался: враги народа, измена – понятия известные, ярость повернулась и на органы – говнюки, каркали, сажали, казнили, а что толку? Не тех стреляли.
– Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят!
По имени-отчеству было привычнее.
На заводе все знали его историю: как его посадили в тридцать седьмом, как хлопотали за него, председателя завкома, настойчиво, не считаясь с запретами, и добились – его освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то ли желая доказать (кому? что? – в те дни это понимали), то ли полагая, что в ополчении он нужнее, дивизии-то фактически еще не было, был порыв, гнев, желание проучить немца.
Ему они могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, а на деле всё – брехня!
Отмолчав, Подрезов спросил:
– Будем шпионов искать или будем воевать?
Предательства не отрицал: врали, обманывали.
– Ничего, разберемся. Сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков, надо драться тем, что есть, – кулаками, зубами, выхода нет. Одолеем, если не оробеем.
Он медленно прошелся взглядом по лицам.
– Другие предложения есть?… Нет. Вот то-то и оно.
Сел в машину и уехал.
Убитых оказалось немного. Хоронили в братской могиле. По-быстрому – один ров на всех. Туда же – двух железнодорожников. Воткнули жердину, прибили к ней доску. Писать поручили мне.
«Пали в боях за Родину. 1941. Июль. 1 ДНО», и фамилии.
Каких боях, думал я, слюнявя химический карандаш.
В могилу положили чью-то ногу. Оторванную ногу нашли на платформе. Говорили, что это Христофорова, плановика из мартена, его самого не нашли.
Весь день шли проселками сквозь густую желтую пыль. Командиры подгоняли, не говорили, куда идем. Вокруг расстилались поля клевера, серебрился овес. Травы зрели, окутанные сладко-пахучей жарой, лениво шевелились.
Рядом со мной Витя Трубников, механик из транспортного. Захлебываясь, повторял, как рухнула на него железная крыша. Черничные глазки его безумно блестели. Снова показывал вещмешок, пробитый осколком.
Привала не было. Гимнастерка липла, мокрая от пота. Я задыхался. Скатка отяжелела. Пить не позволяли. Стали выбрасывать противогазы. Оставляли только брезентовые сумки. После полудня я выбросил пухлый свитер. В мешке у меня лежали пачка сахара, банки консервов, торбочка с лекарствами, собранная матерью, бритва, нож, кружка, мыло, трусы, фляга, носки, две книги стихов… С каждым часом это имущество тянуло сильнее к земле.
Ночи настоящей не было, она не принесла прохлады. Наутро стало еще жарче. Трубников вышел из строя, повалился на откос, стащил ботинок, нога была растерта до крови. Я высмотрел подорожник, облепил Трубникову пятку. К нам подсел Новосильцев, журналист многотиражки, перемотать портянки. Никак у него не получалось. Я обмотал ему одну, а потом вторую ногу, чтоб без морщинок, разглаживал пятки, подошву, как когда-то делал мне отец.
– Ловко ты, – сказал Новосильцев, – точно чулок. Вот чему надо было учить, а то – все на политчас! Мудаки! Господи, всему верили.
Колонна растягивалась, ползла, оставляя за собой длинный хвост пыли. Ничего не стоило расстрелять ее сверху.
Адова жарища, к общему мнению, никак не походила на обычное наше северное лето. Погода и та ополчилась на нас. Чтобы прилечь на песчаную обочину, приходилось расстилать шинель, так все раскалилось… Пыль и та была горячей.
Ротный подбадривал: молодые должны пример показывать, запели бы походную, что-нибудь боевое. Вдруг Трубников запел, тоненько, с вызовом:
День-ночь, день-ночь мы идем по Африке,
День-ночь, день-ночь всё по той же Африке.
И только пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.
– Что за песня? – спросил Авдеев. – Такой не знаю.
– Это Киплинг, – сказал я.
Про Киплинга Авдеев не слыхал, Новосильцев охотно пояснил: певец английского империализма.
– При чем тут империализм, – сказал я. – Ты «Маугли» читал?
– Чего там дальше? Давай пой, – сказал ротный.
Дальше Трубников не помнил, а я, удивляясь своей памяти, стал читать хрипло, запершенным голосом:
Я шел сквозь ад шесть недель. И я клянусь:
Там нет ни тьмы, ни жаровен, ни чертей,
Но только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.
Сколько ж это было, полвека назад, думалось мне, и ничего не изменилось, та же пыль, та же солдатчина?
– Отдыха нет, это верно, – сказал Авдеев, – война у всех одинакова.
Значит, и Авдеев думал о том же.
Когда Авдеев ушел вперед, Новосильцев сказал Трубникову, что английский империализм тоже воюет и, между прочим, против немцев.
– Может, ты объяснишь такой поворот? – спросил он у меня.
Мой друг, можешь ты меня не ждать… —
отвечал я в такт своим шагам.
Я забыл здесь, как зовут родную мать.
Здесь только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.
Деревня называлась Самокража. Странное это название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей, командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась, рыли ее и так и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти. Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало, ротный заставлял копать хоть ложками. Новосильцев смотался в деревню, принес несколько больших лопат. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса, откуда силы брались. Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь.
К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курево, выменивали на водку остатки своего оружия. Солдат, у которого я за махру сторговал семизарядную винтовку, сунул мои три желтенькие пачки в сумку, набитую морковкой, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. Тут же бесцеремонно заглянул мне в вещмешок, цапнул оттуда синюю жестянку, открыл, расхохотался: зубной порошок! Я покраснел, вспомнив свою привычку чистить утром зубы. В отместку я принялся с ехидцей спрашивать, как они, кадровые, драпали – от самой границы? Оказывается, красноармеец и немцев по-настоящему не видел. Вояки! Слушая его, я исполнился пренебрежением к его кадровой бригаде, ныне скорее похожей на толпу беженцев, кожаные свои ремни и те они сменяли на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик.
Солдат закрутил махру в длинную цигарку, поджег, блаженно затянулся и пояснил отечески, что невозможно воевать без отступа, соображение, которое не приходило мне в голову. «Ни шагу назад» – только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя, бежать – он догонит, он на машинах, с ним маневр необходим, в маневре надо где зацепиться, где в сторонке схорониться, можно и поспешать, только чтобы своих не терять. Оружие мы не побросали, видишь, вашего брата обеспечили…
Ополченцы обзаводились гранатами, выменяли пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог.
Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают? «На переформирование, убыль большая». Выходит, теперь весь удар примет ополчение.
Вечером ротный ходил по взводам, повторяя, что вся надежда на нас, впереди никого. Я не преминул спросить: как так? «Красная армия всех сильней», так пусть же Красная сжимает властно свой штык…
– Спеть все можно, – сказал Авдеев, – кончай подъелдыкивать.
Сам ротный приобрел пистолет, у кое-кого появились автоматы и даже один превосходный бинокль, который был реквизирован для командира полка.
Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала, как будто что-то катилось со всех мест, весь горизонт, вся впереди лежащая даль скрежетала, ухая и рыча, приближалась к ротным порядкам. Там, впереди, еще золотились ржаные поля, стояла роща, скользили тени облаков…
Невидимое сражение близилось, это была война, которую я еще не видел, беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться.
Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали взахлеб пулеметным огнем, загибали все круче, в сторону, не обращая внимания на авдеевскую роту.
«Обходят!» – этот крик покатился по окопам. Я, не целясь, выстрелил. Кто первый побежал – неизвестно, я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона: оказывается, там тянулся неглубокий ров, превращенный в окопы.
Мы пробежали почти километр. Ротный пытался остановить нас, матерился, размахивал гранатой. Заставил вынести два станковых пулемета, главное стрелковое имущество роты. Один пулемет тащил на себе Виктор.
Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогло мне, так это то, что так вели себя кругом другие: бежал я вместе со всеми, как и другие, не мог поднять головы при бомбежке.
Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: «Под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее приготовленные позиции». От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле, мчался, словно по пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся, смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного за другим. Помнится, передо мной появился начштаба батальона, схватил кого-то за гимнастерку, боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом, и кто-то другой толкнул меня так, что я свалился.
К вечеру выяснилось, что три немецких броневика удалось-таки подорвать, оказывается, третья рота остановила немца, там завязался настоящий бой. Но потом затрещали автоматчики, слух об окружении заставил роту отступить. Отходили, отстреливаясь, у них были ручные пулеметы, а главное, с ними был командир полка майор Семирикин.
Разведчик
В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.
Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.
Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянный был, подначил, и мы с ними зашагали в хвосте. Бескончин послал двоих предупредить, что так, мол, и так. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швыряем. Вперед и назад. И вбок. Немцы никак не разберутся. Паника началась. Побросали они свои пулеметы, рацию и бежать. Мы всё в кучу, подожгли. Вернулись. Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он стал темнить. Мол, сообщил комбату, «смотря по обстоятельствам, можешь, подержи, не можешь – отходи». Чтоб его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, все же они с одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя, говорит, давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет – поговорили. Устыдил ты его? А как же, морду набил, искровянил всего так, чтобы закаялся.
Жаль, что мы не видели.
При вас, говорит, нельзя, все же командир он, не положено.
Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.
Неизвестный солдат
Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, немыслимая цена. Правду о потерях выдают порциями, иначе бы она разрушила все представления о сияющем лике Победы. Все наши полководцы, маршалы захлебнулись бы в крови. Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожно перед полями, заваленными трупами. Из черепов можно было соорудить пирамиды, как на верещагинской картине. Цепь пирамид – вот приблизительный памятник нашей Победе.
В «Блокадной книге» мы с Адамовичем написали цифру погибших в блокадном Ленинграде: «около миллиона человек». Цензура вычеркнула. Нам предложили 632 тысячи – количество, которое дано было министром Павловым, оно оглашено было на Нюрнбергском процессе. Мы посоветовались с историками. Валентин Михайлович Ковальчук и его группа, изучив документы, определили: 850 тысяч. Жуков в своих мемуарах считал, что погибло «около миллиона». Дело дошло до главного идеолога партии М.А. Суслова. После многих разборок в обкоме партии, горкоме было дано указание: 632 тысячи, «не больше». Утверждали люди, которые не воевали, не были блокадниками, у них имелись свои соображения. Павлов заботился о своей репутации, он «обеспечивал» город в блокаду продуктами. Суслов хотел всячески сокращать потери войны, дабы не удручать картины. Теперь, когда война кончилась, они стали уменьшать потери, хотели украсить Победу. В войну потери никого не интересовали. После войны Сталин и его подручные выдали для истории победы цифру 7 миллионов. Что сюда входило, не раскрывали. Как бы и фронтовые потери, и на оккупированных землях. В энциклопедии Великой Отечественной войны вообще слóва «потери» нет. Не было потерь, и все.
Затем в 1965 году, во времена Брежнева, цифра потерь скакнула до 14 миллионов. Еще несколько лет, и разрешили опубликовать 20 миллионов. Следующую цифру военные историки выпустили уже спустя четверть века – 27 миллионов. Опять же обходя всякие расшифровки.
Ныне говорят о 30 и больше миллионах.
Пример Ленинградской блокады характерен. Даже добросовестные историки не учитывают погибших на «Дороге жизни», в машинах, что уходили под лед, и тех, кто погибал уже по ту сторону блокады от последствий дистрофии, и те десятки, сотни тысяч, что в июле-августе бежали из пригородов в Ленинград и там вскоре умирали от голода, от бомбежек «неучтенными». Потери обесценивают не подвиг ленинградцев, а способности руководителей – человеческая жизнь для них ничего не значила. Будь то горожане-блокадники, будь то солдаты на фронте – этого добра в России хватит, его и не считали.
Главная у нас могила – Неизвестному солдату.
* * *
Он умирал в госпитале, умирал на рассвете, не было сил позвать сестру, да и охоты не было, она помешала бы, потому что он ждал, что ему что-то откроется, смысл уходящей от него жизни, то, что было заложено в его душе и ждало этого часа, перед тем как покинуть мир, смысл взрыва, который настиг его, вернее, конца, итога, последней черты. Нет, ничего не приходило, болел еще пуще ноготь, вросший в большой палец ноги, так он его и не успел отстричь, и эта глупая мелкая боль пробивалась сквозь обмирание слабеющего сердца как насмешка. Так он и умрет по-глупому. Наверное, все так умирают, недоумевая, не поняв, что же это все было.
Он вдруг поднялся, откуда нахлынули силы, и громовым голосом, разбудив всех, заорал:
– Двадцать миллионов угробили! Завалили фрицев мясом, на хер мы старались геройствовать! Матросовы, Покрышкины… Подыхаем здесь. Мусор. Остатки. Если Бог есть, достанется вам, не вывернетесь, суки.
И упал. Что-то еще хрипел, но уже не разобрать.
* * *
Сашу Ермолаева хоронили на Красненьком кладбище. После похорон я подошел к председателю Кировского райсовета:
– Вы слыхали сегодня, как Ермолаев хорошо воевал. Мы с ним вместе в одной части прошли весь сорок первый и зиму сорок второго года. Почему его фамилию не занести на Доску памяти участников войны?
– Там же занесены только погибшие на фронте.
– Я знаю. Но разве это правильно? Оттого, что Ермолаев уцелел, награжден за свои подвиги кучей орденов, от этого он не может быть увековечен?
– Таков порядок. Ничего не могу поделать.
Он сочувственно развел руками, он был защищен законом, ему ничего не надо было предпринимать.
– В сущности, он умер от старой раны. Война догнала его. Выжил благодаря своему богатырскому здоровью.
– Я согласен с вами… Хотя… – Он нахмурился. – Если заносить всех, кто выжил, никаких досок не хватит. Извините, вы ведь тоже воевали.
– От нашей дивизии осталось шестьсот человек, – сказал я.
– Вот видите, – сказал он. – Впрочем, это не нам с вами решать.
– В том-то и дело, что решают те, кто не воевал.
Дома я достал фотографию Саши Ермолаева с женой Любой, на обороте была дата «1949 год». Он был уже в штатском. Мы тогда не думали ни о каких мраморных досках, наградой было то, что мы уцелели. А вот теперь стало обидно, что нигде, ни на заводе, ни в районе, ничего не останется о нем. Я вспомнил нас. Он тащил всю дорогу противотанковое ружье, больше пуда, длинную железную однозарядную дуру.