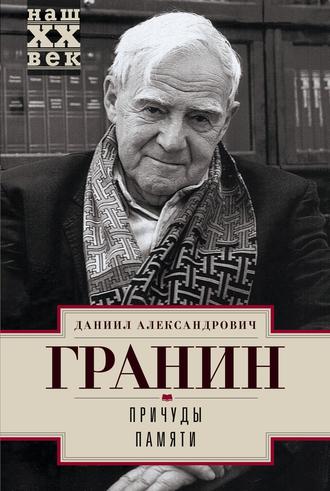
Даниил Гранин
Причуды памяти
© Гранин Д. А., 2017
© ООО «Рт-СПб», 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *
Непривычный Д. А. Гранин
Представлять автора и предварять комментариями текст его произведения традиционно принято при литературных дебютах. В данном случае нужды в этом нет – уважаемое имя Д. А. Гранина давно и хорошо известно читающей публике.
Тем не менее есть повод нарушить традицию: предлагаемая вашему вниманию книга по структуре и стилистике разительно отличается от привычной для читателей классической повествовательной манеры писателя.
К какому жанру можно отнести этот объемистый и пестрый конгломерат произведений малых форм?
Мемуары? Нет. Звучит слишком пафосно применительно к этой странной книге. Хотя по сути почти верно. Ведь автор, и по сей день пребывающий не в последних рядах отечественного социума, пережил все перипетии новейшей истории нашей страны в эпохи от Сталина до Путина. Судьба подарила ему встречи (а с кем-то и дружбу) со многими незаурядными людьми. Ему есть что вспомнить, и он вспоминает…
Привычный стандартный ярлык «Из записных книжек» тоже абсолютно неприемлем. Хотя рабочие заготовки (лирические пейзажные зарисовки, подсмотренные житейские ситуации, слышанные благоглупости, лингвистические нелепости «великого и могучего» и т. п. и т. д., все то, что хранится у сочинителей в «закромах» для грядущего использования) вкраплены весьма обильно. Контрастно сочетая «высокое» с «низким», автор перемежает ими основной текст (воспоминания, размышления, образы друзей), меняя ритм изложения.
Представляя объемистую книгу, неуместно пересказывать ее содержание. Но кое о чем можно коротко упомянуть.
Д. А. Гранин рассказывает о выдающихся современниках: О. Ф. Берггольц, Д. С. Лихачеве, М. К. Аникушине, А. Ф. Иоффе, Н. В. Тимофееве-Ресовском, Д. Д. Шостаковиче, А. Л. Минце, А. П. Александрове, Стивене Хокинге и многих других. Он затрагивает в своих размышлениях сложные философские вопросы мироздания, религиозной веры и неверия, смысла жизни человека, вечные вопросы понимания сущности нравственных категорий – совести, стыда, покаяния.
Конечно же, не только Бытие, но и советский быт представлены в книге, в том числе страшные подробности войны и ленинградской блокады, любопытные детали послевоенной жизни. Попутно повествуется «о руководящей роли компартии», о том, как политическая система деформировала личности творческих людей, понуждая большинство из них к конформизму.
Читая книгу Д. А. Гранина, не только интересно узнавать о том, что по разным поводам думает много переживший и повидавший мудрый человек. Книга побуждает к размышлениям о себе, о собственной жизни и об окружающем мире.
Д. А. Гранин всей своей военной и трудовой жизнью, безусловно, заработал право на позицию наблюдателя. Надеемся, что он еще не раз порадует читателей новыми произведениями.
Издатели
Часть первая
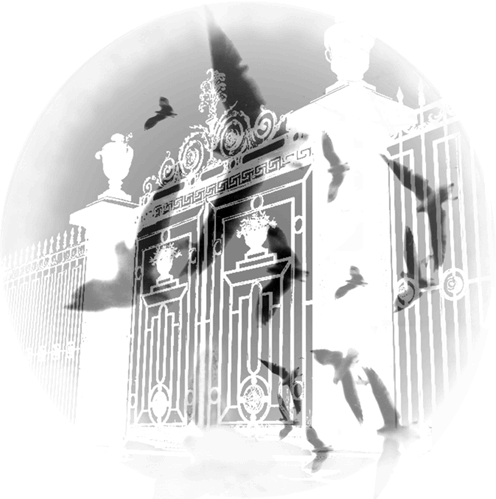
Летний сад

Перед разлукой мы все трое встретились позади Домика Петра I за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на молоденькой траве.
Бен попал в зенитную часть, Вадим – в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастерок. Командирская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, «фуранька», как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой; весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть горечь нашей предстоящей разлуки.
Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка – б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах – стоптанные ботинки, обмотки, и в завершение – синие диагоналевые галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел вытащить нас троих из тьмы забытого последнего нашего свидания, и я увидел себя – в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее, они возмущались тем, что неужели меня, вольноопределяющегося, как назвал Вадим, не могли обмундировать как следует.
Они сердито цитировали призыв, тогда звучавший на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, – выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки. Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, – прежде всего – грудью!
Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли броню и зачислили в ополчение.
То есть рядовым в пехоту, спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война – профессиональное дело, доказывал Бен.
Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В университете на Вадима возлагал большие надежды сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость.
Я гордился дружбой с ними, тем, что допущен в их круг, на меня, рядового инженера, никто особых надежд не возлагал, в их компании я всегда выглядел чушкой, они по сравнению со мной аристократы, во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.
Вадим достал из кармана фляжку, с водкой, отцовскую, пояснил он, времен первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «Лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку:
…от тайги до
британских морей
Красная Армия
всех
сильней!
Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем. Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние – в злобу, и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная.
Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все уже когда-то было: война, падение империи, чума, разруха.
В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима, под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», – закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.
Разведчик
В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли к нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.
Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.
Пошли ночью. По шоссе двигалась немецкая колонна. Куда они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл к нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянный был, подначил, и мы с ними зашагали в хвосте. Бескончин послал двоих предупредить, что так, мол, и так. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швыряем. Вперед, и назад, и в бок. Немцы никак не разберутся. Паника началась. Побросали они свои пулеметы, рацию в том числе, и бежать. Мы все – в кучу, подожгли. Вернулись. Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он стал темнить, мол, сообщил комбату, «смотря по обстоятельствам, можешь – поддержи, не можешь – отходи». Чтобы того не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, все же они из одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя говорит: давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет – поговорили.
– Устыдил ты его?
– А как же, морду набил, искровянил всего, так, чтобы закаялся.
– Жаль, что мы не видели.
– При вас, – говорит он, – нельзя, все же командир он, не положено.
Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.
1941 год
В августе 1939 года Молотов говорил на сессии Верховного Совета: «Вчера еще мы были с Германией врагами, сегодня мы перестали быть врагами».
«Если у этих господ, Англии и Франции, опять такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами, без Советского Союза. Мы посмотрим, что это за вояки».
Вот с каким идейным обеспечением мы отправились на войну.
Перед этим с Риббентропом наши правители торжественно подписали договор о ненападении. На фотографии в «Правде» советские хитрецы вместе с ним весело улыбаются. Потом Молотов целовался с Риббентропом.
Молотов вещал, что Германия стремится к миру, а Англия и Франция за войну, это средневековье.
Заблуждался? Кое-как объяснимо. Мог так думать, да еще политика заставляла. Позже историки старались оправдать и его, и других.
Война закончилась. После нее Молотов прожил еще 41 год! Бог ты мой – целую жизнь! Было время объясниться с Историей, поправить себя, оставить какую-то ясность. Нет, не захотел. Все, что делал, правильно, честно, мудро, иначе было нельзя, никаких покаяний, фиг вам!
Немцы все кричали «Ура!» Гитлеру, доносили гестаповцам, потом стали доносить штази на тех, кто смотрит западное TV. Теперь они требуют выяснить, кто из новых депутатов был связан с КГБ.
Немец, молодой, веселый, сказал мне: «Какая у вас плохая туалетная бумага, как вы живете, я взял кусок показать у нас в ФРГ, чем вы подтираетесь».
В ГДР было 85 000 штатных сотрудников штази.
Как одинаково распадались режимы в Болгарии, ГДР, Чехословакии, и как глупо вели себя при этом правители.
Карл Т. вступил в компартию, чтобы сделать карьеру, теперь вышел, чтобы опять продвинуться.
Лицо
Лицо – это единственное место у человека, открытое для показа того, что делается там, в душе. У собаки есть еще хвост, что-то она им выражает – приветливость, настороженность, а у человека только лицо. Уши у него не поднимаются, шерсть не встает. Есть шея, плечи, они мало что дают, а вот лицо – это сцена, где свои безмолвные роли играют много актеров. Это театр мимов, где играют чувства, отражаются мысли. Появляются знаки притворства и искренних страстей. Труднее всего приходится глазам, через них можно заглянуть вглубь, им трудно скрыть свой блеск, гнев, еще труднее – горе, когда, хочешь не хочешь, наворачиваются слезы.
Я все это изучал по ее прелестному лицу, безупречно красивому, оно показывало открытость, ни тени притворства, но именно показывало, это была искусная игра, пожалуй, естественная, рожденная женским инстинктом, никто их не обучает этому. Голубые глаза темнели, и тогда проглядывалась мольба, смешанная со злостью, что бурлила там, внутри. Но наверху на лице шла игра обольщения, призыв вспомнить все хорошее, что было: поцелуи, шепот, близость, вскрики страсти.
Я смотрел спектакль; то, что творилось на сцене-лице, не имело ко мне отношения. Губы играли отлично, и морщинки вокруг глаз им помогали. Жаль, что я не видел своего лица, можно было сравнить, что за ансамбль получался.
Глаза ее загорелись, как будто там повысили напряжение…
* * *
Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства.
Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все что было? Одно за другим приходят письма: «Я, инвалид I группы Красавина Тамара, наша мама всю жизнь трудилась дворником, вечерами в прачечной стирала людям… Мы считаемся блокадниками, и что? У нас есть бедные и богатые. Бедные живут на 2000 рублей, а богатые едут в Италию и Париж. И им все мало».
Ольга Федоровна верила, что слова ее, высеченные на камне одного из главных памятников Великой Отечественной, не устареют, они были как формула, как закон.
Греческий историк Фукидид писал свой труд о войне между пелопоннесцами и афинянами в «уверенности, что война эта великая и самая достопримечательная из всех, какие были».
Это было 24 века назад!
Время от времени комбат посылал меня в подвалы Пулковской обсерватории. Там валялись остатки библиотеки: атласы звездного неба, созвездия, таблицы. Комбату же нужно было что-то для чтения. Я откапывал номера старой «Нивы», попадался журнал «Аполлон» (его бумага тоже не шла на самокрутки).
В блокаду мы на фронте стреляли ворон. Охотились за ними больше, чем за немцами. Ездили еще на «пятачок» охотиться, там можно было подхарчиться за счет убитых, которыми питались вороны.
Получил боец посылку, понес, заблудился, попал к немцам, но не растерялся, сказал: «Ведите к офицеру – мой командир посылает вам на Новый год». Отпустили.
Случилось это на Ленинградском фронте. Когда сценаристы использовали для фильма – получилась выдумка.
Как же так случилось, что я стал седым?
А и сам не помню – был ли молодым.
Воевал ли я? Может, то был другой, а может, меня убили, а остался кто-то другой?
9 Мая 1945 года Эренбург ночью написал стихи «Победа». Кончаются они так:
Я ждал ее, как можно ждать любя,
И час настал, закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она,
И мы друг друга не узнали.
В те же дни Абакумов писал Сталину донос на Эренбурга.
То и дело открываются тайны прошлого: обстоятельства убийства Кирова, смерть Сталина, расстрел Берии, сведения про Жукова, про Хрущева… Раскрываются всё новые и новые тайны, публикуются легенды, оглашаются подозрения, слухи о нераскрытых преступлениях, документах…
Блокадная память
Записывая рассказы блокадников, мы с Адамовичем чувствовали, что рассказчики многое не в состоянии воскресить и вспоминают не подлинное прошлое, а то, каким оно стало в настоящем. Это «нынешнее прошлое» состоит из увиденного в кино, ярких кадров кинохроники, книг, телевидения. Личное прошлое бледнеет, с годами идет присвоение «коллективного» – там обязательные покойники на саночках, очередь в булочную, «пошел первый трамвай». Нам с Адамовичем надо было как-то вернуть рассказчика к его собственной истории. Это было сложно, нелегко преодолевать эрозию памяти, тем более что казенная история противостояла индивидуальной памяти. Казенная история говорила о героической эпопее, а личная память о том, что уборная не работала, ходить «по-большому» надо было в передней, или на лестнице, или в кастрюлю, ее потом нечем мыть, воды нет…
Мы расспрашивали об этом, о том, что было с детьми, как раздобыли «буржуйку», сколько дней получали хлеб за умершего.
Мой друг так перефразировал римского сенатора Катона: «Карфаген должен быть разрушен, а Ленинград – восстановлен!»
«Я установил, что я бездарен, поэтому нет смысла оставаться порядочным. Талантливый человек, когда согрешит, его будут осуждать, вздыхать. Порядочность его украшает. Меня ничто не украсит, а расходы на порядочность большие, прославить она не может. Нет уж, тем более что подлости у меня получаются».
Я так и не мог понять, издевался Игорь Федорович над собой или хотел меня вызвать на откровенность. Мы выпили еще, и я стал его утешать, вспомнил, какой замечательный капустник он сочинил. Он прослезился, повеселел, похоже, что это ему и надо было.
В начале мая деревья покрылись зелеными мушками. Не покрылись, а задымились, зеленый прозрачный дымок от первых листочков. Тень появилась светлая, сетчатая, пахучая. Я в нее окунулся. Дул ветерок, но ни березки, ни липы на него не отзывались, нечем им было, они еще бесшумны. Солнце делает новорожденные листки прозрачно зелеными, яркими, от этой детской чистоты природы меня охватывает восторг, на душе весело и молодо, как там, где тоже ликует зелень в солнце, хочется, да нет, ничего не хочется, а просто восторг. Стою и улыбаюсь. Иду и улыбаюсь.
Я хожу в эту рощу часто, знаю каждое дерево, молодняк не различаю, а вот с коренными знаком.
Хорошо здесь к концу сентября, тогда в лесу пылает осеннее пламя. С дороги, там над темными кронами сосен и елей словно восход поднимается, собственный свет бушует, это листва, к осени насыщенная солнцем, сама излучает, а тут еще рябина добавляет, и, невидная все лето, осенью вдруг царственно взыграла.
Желто-оранжевый цвет себя показал, ничуть он не хуже зеленого с его разнообразием оттенков, этот даже ярче, от коричневого до багряного, от рыжего до карминового, апельсинового.
Никогда не было так, чтобы ничего не было – это про лес. И про дерево, вот существо, почитаемое мною, оно восхищает своей самоотверженной прелестью. После смерти оно продолжает служить избой, мебелью, стропилами, по-новому красиво, надежно, оно всегда теплое.
Машина едет по лесному проселку, и между черными елями желтые облачка берез. День серый, отчего краски разгораются ярче, такой силы этот осенний цвет, что кажется, от него тень может появиться на земле.
Человек приговорен к смерти. За что приговорен – неизвестно. Когда исполнят приговор – неизвестно. Он убежден, что осудили его несправедливо. Кому пожаловаться, кому подать кассацию – неизвестно. Как только он решает наплевать на все это и жить в свое удовольствие, за ним приходят и увозят, куда – неизвестно.
Теперь уже не разобрать, кто воевал в артиллерии, кто в редакции, кто в банно-прачечном отряде. Все ветераны, все с колодками орденов, все 9 Мая обнимаются и принимают цветы. А есть такие, что выхлопотали себе инвалидные книжки, доказали, что недавно приобретенная подагра или радикулит окопного происхождения.
Барахолка
В июне 1946 года вышло постановление Совета Министров СССР о реставрационных мастерских для пушкинских дворцов. Ленинград еще не оправился от блокады. Стояли разбомбленные дома, не хватало электроэнергии, люди возвращались из эвакуации, а селиться было негде. В нашей коммунальной квартире, когда я вернулся из армии в конце 1944 года, жило двенадцать человек, а в 1946-м – уже восемнадцать. Приезжали и приезжали. Коммуналки были переполнены. Надо было восстанавливать жилье. Прежде всего жилье! А тут реставрация дворцов. Да что же это такое? Но если бы тогда не приступили к этому, если бы помедлили, то растащили бы обломки украшений, карнизов, капители, все, что валялось среди дворцовых развалин. Охраны не было. Копали, копошились и местные, и приезжие. Кто себе в дом, кто для поделок.
Постановление вышло кстати. Не знаю, кто автор, кто его протолкнул, то ли ленинградские власти, то ли Косыгин. Перед нами всегда безымянное «правительство». Среди его пассивного равнодушия действуют какие-то люди, одни – корысти ради, другие, те, кто страдал за пушкинские дворцы и неведомыми нам путями добирался на самый верх, просили, доказывали, убеждали, но про них ничего не известно.
А между тем сколько хитрости им приходилось применять. Они и унижались, и заискивали. Они-то и творят историю.
Теперь, рассуждая об этом, вспомнилось мне одно предложение на барахолке – головка амура, золоченая, бронзовая, обломанная у шеи, так, что еще часть крыла осталась у плеча. Прелестная головка. Барахолка помещалась на Обводном канале. Она заслуживала бы отдельного рассказа. Нигде ни до, ни после ни на одном базаре не видал я такого выбора: ни на блошином рынке Парижа, ни на знаменитых базарах Востока, ни в послевоенной Германии, где хватало всякой всячины. Всюду все уже знали, что почем, знали цену своему товару. Здесь же, на Обводном, торговали солдаты, вдовы, демобилизованные офицеры, тем, что нахватали в Европе, а хватали что ни попадя. Везли мешками, чемоданами из Венгрии, Чехии, Польши, конечно, из Германии. Везли и машинами, и товарными вагонами. Портьеры и ковры, посуду и мясорубки, картины, выдранные из рам, зеркала. Обчищали дома, фермы, учреждения. Тащили пишущие машинки (ходил слух, что дома их легко можно переделать на русский и загнать), письменные приборы, каменные чернильницы, радиоприемники, люстры; комиссионки ломились от шуб, отрезов, обуви, шалей. Барахолка выигрывала тем, что деньги получить можно было сразу. Не надо паспорта, ни процентов продавцам. Тут же выпивали, спрыскивая покупку да и продажу тоже.
Барахолка, было у нее еще название «толкучка», толкотня была ощутимая. Приволье карманникам.
Бронзовый амур был хорош, но мне нужен был пиджак, что-то штатское, осточертела гимнастерка. А на пиджаки был спрос больше, чем на амуров. Кроме амура вспоминаю упущенный большой деревянный горельеф, великолепное произведение, как теперь вижу старинную работу XVIII, а то и XVII века. Сцена из Священного Писания с Марией Магдалиной. Тяжелую эту панель подвыпивший мужик в шинели поставил в грязь, на землю и охрипло-безнадежно зазывал покупателей. Увидел мой интерес, вцепился в меня, не отпускал, обещал донести до дому, сбавлял цену. Хороша была вещь, помню ее в подробностях, закостенелую от времен желтизну фигур и темную дубовую раму, так память бережно сохраняет упущенное.
В другой раз я долго топтался, приходил, уходил, возвращался к малахитовому ларцу с шахматами, выточенными из кости. Фигуры ферзя, слонов, ладьи были в виде голов, украшенных коронами, шлемами. Прелесть состояла в своеобразии каждой физиономии, хотя пешки были разные, однако каждое лицо было пешечно-солдатским, туповато-послушным, в каждом был Швейк. А офицерский состав отличался надменностью, живостью… Художнику не все удалось, но ясен был замысел.
Так и не решился купить. Почему, не помню. Может, потому, что слишком шикарны были эти вещи для нашей комнатухи в страшной коммуналке, которая все уплотнялась и уплотнялась.
* * *
Они заночевали в большом дачном доме у друзей под Моск вой. Никого в доме не было, она и муж. Он заснул, а она ходила по комнатам и думала, как могла бы сложиться ее жизнь с этим мужем в таком доме, а не в тесной их двухкомнатной квартире. Когда развешивали белье, надо, сгибаясь, пробираться в коридоре. Слышно, как она кряхтит в туалете. Никогда она не может уединиться. Если б у нее была бы своя комната, а у него – своя. Она выходила бы одетой, нарядной. Она физически страдала оттого, что должна при нем переодеваться, он всегда слышит ее разговоры с подругами.
Она мечтала, чтобы они спали в разных комнатах, наутро она бы одевалась одна, не спеша, появлялась бы умытая, пахнущая духами, чтобы что-то прежнее, молодое вернулось к ним. Она поймала себя на том, что раздражается на него, он был ни при чем, наверное, и ему доставалось…
Она ходила по комнатам этого дома, примеривая их к своей жизни, иногда вот так же она заходила в магазин померить модное пальто, повертеться перед зеркалом, увидеть там такую, какой она хотела быть.







