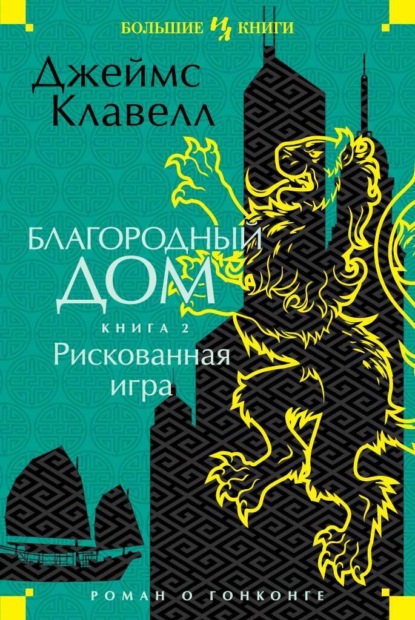Полная версия:
Джеймс Клавелл Король крыс
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Джеймс Клавелл
Король крыс
James Clavell
KING RAT
Серия «The Big Book»
Copyright © 1962 by James Clavell
All rights reserved
© П. Мельников, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *Тем, кто был там и кого сейчас нет.
Тем, кто был там и живет сейчас.
Ему.
Но в большей степени – ей.
Была война. Лагеря Чанги и Утрам-Роуд существовали.
Все остальное в романе – плод абсолютного вымысла, и всякое сходство с умершим или ныне живущим персонажем случайно.
Чанги был жемчужиной на восточной оконечности острова Сингапур, радужно переливающейся под сводом тропического неба. Он стоял на небольшом возвышении, окруженный кольцом джунглей, за которыми раскинулась сине-зеленая морская гладь, уходящая в бесконечность до самого горизонта.
Вблизи Чанги терял свою красоту и превращался в то, чем был на самом деле, – отвратительную, страшную тюрьму. Тюремные бараки посреди выжженных солнцем площадок, обнесенные возвышающимися над ними стенами.
За стенами, внутри бараков, ярусами были расположены камеры, рассчитанные на содержание двух тысяч пленных. Сейчас в камерах, в проходах между ними, в каждом закоулке и в каждой щели находилось около восьми тысяч человек. В большинстве своем это были англичане и австралийцы, немного новозеландцев и канадцев – остатки армий, принимавших участие в военной кампании на Дальнем Востоке.
Помимо всего прочего, эти люди были еще и преступниками. Преступление их было страшным. Они проиграли войну. И выжили.
Двери камер были распахнуты, двери бараков не запирались, огромные ворота, разрезающие стены, открыты настежь, и люди могли входить и выходить почти свободно. Но все равно ощущение скученности и нехватки пространства не исчезало.
За воротами проходила гудронированная дорога. Через сотню ярдов к западу дорогу перегораживали ворота, оплетенные колючей проволокой, а за ними располагалось караульное помещение, заполненное вооруженными ничтожествами из армии победителей. Потом дорога весело убегала дальше и в конце концов терялась в растущем городе Сингапуре. Но для заключенных дорога на запад заканчивалась в сотне ярдов от главных ворот.
В направлении на восток дорога шла вдоль стены, потом поворачивала на юг и снова тянулась вдоль стены. По обеим сторонам дороги стояли ряды длинных примитивных хижин. Все они были одинаковыми – шестьдесят шагов в длину, со стенами из сплетенных листьев кокосовых пальм, грубо прибитых к столбам, и крышами из листьев тех же пальм, слой за слоем накладываемых поверх листьев, уже тронутых плесенью. Каждый год добавлялся – или должен был добавляться – новый слой. Потому что солнце, дожди и насекомые подтачивали крышу и разрушали ее. Вместо окон и дверей – проемы. Хижины имели длинные свесы для защиты от солнца и дождя. Бетонные сваи оберегали эти хилые постройки от наводнений, а также от змей, лягушек, слизней и улиток, скорпионов, многоножек, жуков и клопов – всех возможных видов ползающих тварей.
В этих хижинах жили младшие офицеры.
К югу и востоку от дороги стояли четыре ряда бетонных бараков, двадцать в ряд, обращенные друг к другу тыльными сторонами. В них жили старшие офицеры – майоры, подполковники и полковники.
Дорога поворачивала на запад, снова следуя вдоль стены, и выходила на еще один ряд хижин. Здесь была расквартирована часть пленных, которых не вместила основная тюрьма.
И в одной из них, меньшей по размерам, чем остальные, жили американские военнослужащие – двадцать пять человек.
Там, где дорога вновь поворачивала на север, прижимаясь к стене, находились лагерные огороды. Остальные огороды, которые являлись основным источником пропитания лагеря, лежали дальше к северу, за дорогой, напротив лагерных ворот. Дорога шла дальше через небольшой огород и через двести ярдов упиралась в караульное помещение.
По периметру всей истекающей по́том зоны, размером примерно полмили на полмили, шел забор из колючей проволоки. Его легко можно было разрезать. Легко преодолеть. Он не охранялся. Никаких прожекторов. Никаких часовых с пулеметами. Но что из того, что вам удалось бы выбраться за ограду? Родной дом лежал за морями, за горизонтом, за бесконечным океаном или враждебными джунглями. За проволокой жила беда – и для тех, кто сбежал, и для тех, кто остался.
К 1945 году японцы научились перекладывать заботы по управлению лагерем на самих пленных. Японцы отдавали приказы, а офицеры несли ответственность за их выполнение. Если лагерь не доставлял беспокойства, все было в порядке. Но просьба о еде доставляла беспокойство. Просьба о лекарствах – тоже. Любая просьба. То, что заключенные были живы, тоже являлось источником беспокойства.
Для заключенных Чанги был больше чем тюрьмой. Чанги был местом, где нужно начинать все сначала.
Книга первая
Глава 1
– Я достану этого проклятого ублюдка, даже если сдохну при этом! – Лейтенант Грей был рад наконец высказать вслух то, что у него накипело на душе.
Злоба, прозвучавшая в голосе лейтенанта, заставила сержанта Мастерса оторваться от своих грез. Он думал о бутылочке ледяного австралийского пива и стейке с жареным яйцом сверху, о своем доме в Сиднее, о своей жене, ее грудях и запахе ее тела. Сержант не потрудился проследить, на кого смотрит лейтенант, выглядывая из окна. Он знал, кому предназначался этот взгляд, направленный в сторону полуобнаженных мужчин, бредущих по грязной тропинке вдоль колючей проволоки. Но его удивила вспышка злобы в голосе Грея. Обычно начальник военной полиции Чанги был молчалив и неприступен, как любой англичанин.
– Поберегите силы, лейтенант, – устало отреагировал Мастерс, – скоро япошки расправятся с ним.
– К чертовой матери япошек! – бросил Грей. – Я хочу поймать его сам. Я хочу, чтобы он сидел в этой тюрьме. А когда я разберусь с ним, хочу отправить его в Утрам-Роуд.
– В Утрам-Роуд? – Мастерс был ошеломлен.
– Конечно.
– Черт возьми! Я понимаю, что вам хочется поймать его, – согласился Мастерс, – но я бы никому не пожелал подобного.
– Ему надлежит быть только там. Именно туда я собираюсь посадить его. Потому что он вор, лжец, мошенник и паразит. Кровосос, который кормится за наш счет.
Грей поднялся и подошел поближе к окну душного барака военной полиции. Он отмахнулся от мух, которые тучей поднялись с дощатого пола, и прищурился от полуденного солнца, сжигавшего утоптанную землю.
– Ей-богу, – сказал он, – я сквитаюсь с ним за всех нас.
«Удачи тебе, приятель, – подумал Мастерс. – Ты, может, и поймаешь Кинга, если кто-нибудь вообще способен это сделать. У тебя достанет ненависти». Мастерс не любил офицеров и не жаловал военную полицию. Грея же он презирал, потому что тот выдвинулся в офицеры из рядовых и старался скрыть это.
Но Грей был не одинок в своей ненависти. Все население Чанги ненавидело Кинга. Они ненавидели его за мускулистое тело, за ясный блеск синих глаз. В этом сумеречном мире полуживых людей не было ни упитанных, ни хорошо сложенных, крепко сбитых, плотных телом мужчин. Были только лица, на которых выделялись глаза, и тела, от которых остались кожа и кости. Люди отличались друг от друга лишь возрастом, чертами лица и ростом. И только Кинг во всем этом мире питался как настоящий мужчина, курил то, что подобает мужчине, спал столько, сколько надо мужчине, видел мужские сны и выглядел как настоящий мужчина.
– Эй! – рявкнул Грей. – Капрал! Подойди сюда!
Кинг понял, что Грей следит за ним, как только обогнул угол тюрьмы, и не потому, что разглядел лейтенанта в темноте хижины военной полиции, а потому, что знал Грея как человека привычки, а когда имеешь врага, нужно знать, как он себя ведет. Кинг знал о Грее столько, сколько любой человек может знать о другом.
Он сошел с тропинки и приблизился к обособленно стоящей хижине, выделяющейся из множества других.
– Вы хотели видеть меня, сэр? – спросил Кинг, отдавая честь.
Улыбка его была вкрадчивой. Солнцезащитные очки скрывали презрение, светившееся в его глазах.
Из окна Грей смотрел сверху вниз на Кинга. Напряженное выражение его лица скрывало ненависть.
– Куда ты направляешься?
– К себе в хижину, сэр, – терпеливо ответил Кинг, одновременно просчитывая про себя варианты: допустил ли он где-то ошибку, стукнул ли кто-нибудь лейтенанту, что происходит с Греем?
– Где ты взял эту рубашку?
Кинг купил рубашку накануне у майора, который хранил ее в течение двух лет до того дня, когда вынужден был продать ее, чтобы получить деньги и купить еду. Кингу нравилось опрятно и хорошо одеваться. Все остальные не могли себе этого позволить, и поэтому он был доволен, что сегодня на нем чистая и новая рубашка, брюки с отглаженными складками, чистые носки, начищенные ботинки и шляпа без пятен. Его забавляло, что Грей был наг, если не считать трогательно заплатанных шорт, сандалий на деревянной подошве и зеленого берета танковых войск, сильно порченного плесенью.
– Я купил ее, – сказал Кинг. – Уже давно. Нет закона, запрещающего покупать что-либо здесь или где-нибудь еще, сэр.
Грей почувствовал дерзость в слове «сэр».
– Ладно, капрал, заходи сюда!
– Зачем?
– Хочу немного поболтать, – саркастически объяснил Грей.
Кинг сдержал себя, поднялся по ступенькам в комнату и подошел к столу:
– Теперь что, сэр?
– Выверни карманы.
– Зачем?
– Делай, что тебе говорят! Ты знаешь, у меня есть право обыскать тебя в любое время. – Грей позволил продемонстрировать свое презрение к Кингу. – На это согласился даже твой командир.
– Только потому, что вы настояли на этом.
– Имею на то основание. Выверни карманы!
Кинг устало согласился. В конце концов, ему нечего было прятать. Платок, расческа, бумажник, одна пачка сигарет, табакерка, полная невыделанного яванского табака, рисовая бумага для скручивания сигарет, спички. Грей убедился в том, что в карманах ничего нет, потом открыл бумажник. В нем было пятнадцать американских долларов и около четырех сотен сингапурских долларов, выпускаемых японцами.
– Где ты взял эти деньги? – бросил Грей, обливаясь, как всегда, по́том.
– Выиграл в карты, сэр.
Грей невесело рассмеялся:
– У тебя полоса везения. Она тянется уже почти три года. Не так ли?
– Вы уже закончили со мной, сэр?
– Нет. Дай мне взглянуть на твои часы.
– Они есть в списке…
– Я сказал: дай мне посмотреть на твои часы!
Кинг угрюмо расстегнул на запястье браслет из нержавеющей стали и вручил часы Грею.
Несмотря на свою ненависть к Кингу, Грей почувствовал укол зависти. Часы были водонепроницаемыми, противоударными, самозаводящимися. Фирма «Ойстер роял». Наиболее ценный предмет в Чанги, такой же ценный, как золото. Грей перевернул часы и посмотрел на цифры, выбитые в стали, потом подошел к стене, снял с нее список вещей Кинга, автоматически стряхнул с бумаги муравьев и тщательно сверил номер часов «Ойстер роял» в списке.
– Он совпадает, – заметил Кинг. – Не беспокойтесь, сэр.
– Я не беспокоюсь. Это тебе следует беспокоиться.
Он отдал часы, которые могли обеспечить еду почти на полгода. Кинг надел часы и стал собирать со стола бумажник и остальные вещи.
– Ах да. Твой перстень! – заявил Грей. – Давай-ка проверим и его.
Но и перстень укладывался в перечень. Он проходил под названием «Золотой перстень с печаткой клана Гордон». Наряду с описанием был приведен образец печатки.
– Как это у американца оказался перстень с печаткой Гордона? – Грей задавал подобный вопрос много раз.
– Я выиграл его в покер, – сказал Кинг.
– Необыкновенная у тебя память, капрал, – сказал Грей и отдал перстень.
Лейтенант наверняка знал, что и перстень, и часы окажутся в порядке. Он использовал обыск только как повод. Он чувствовал непреодолимое, почти мазохистское желание побыть некоторое время рядом со своей жертвой. Он также знал, что Кинга не так просто напугать. Многие пытались поймать его и потерпели поражение, потому что тот был сообразителен, осторожен и очень хитер.
– Почему это, – резко спросил Грей, неожиданно закипая от зависти при виде часов, перстня, сигарет, спичек и денег, – у тебя столько добра, а у остальных ничего нет?
– Не знаю, сэр. Думаю, просто везет.
– Где ты взял эти деньги?
– Выиграл в карты, сэр.
Кинг всегда был вежлив. Он всегда говорил «сэр» офицерам и отдавал им честь. Английским и австралийским офицерам. Но он знал, что они чувствовали степень его презрения к слову «сэр» и отданию чести. Это было не по-американски. Человек остается человеком независимо от происхождения, воспитания или звания. Если ты уважаешь его, то говоришь «сэр». Если нет, значит нет, и возражают против этого только сукины дети. Черт с ними!
Кинг надел перстень на палец, застегнул карманы и отряхнул пыль с рубашки.
– Это все, сэр? – Он заметил вспышку гнева в глазах Грея.
Грей перевел взгляд на Мастерса, который нервно следил за ними.
– Сержант, принеси мне воды.
– Воды? – Мастерс устало подал ему фляжку с водой, висевшую на стене. – Прошу вас, сэр.
– Это вчерашняя вода, – заявил Грей, хотя знал, что это не так. – Налей свежей.
– Я могу поклясться, что уже менял воду в ней, – сказал Мастерс, потом, покачав головой, вышел.
Грей молчал, а Кинг, расслабившись, ждал. Ветер шевелил листья кокосовых пальм, которые возвышались над джунглями сразу за забором. Это предвещало дождь. На востоке уже собирались черные тучи, готовые застлать собой все небо. Вскоре они превратят пыль под ногами в болото, и станет легче дышать в насыщенном влагой воздухе.
– Не желаете сигарету, сэр? – предложил Кинг, протягивая пачку.
Грей в последний раз курил настоящую сигарету два года тому назад, в день своего рождения. В свой двадцать второй день рождения. Он уставился на пачку, страстно желая одну сигарету, нет, все сигареты сразу!
– Нет, – угрюмо отказался он. – Я не хочу твоих сигарет.
– Не возражаете, если я закурю, сэр?
– Возражаю!
Не отрывая глаз от лица Грея, Кинг спокойно вытащил сигарету из пачки, прикурил и глубоко затянулся.
– Вынь сигарету изо рта! – приказал Грей.
– Конечно, сэр. – Перед тем как выполнить приказ, Кинг сделал длинную, медленную затяжку. Потом ожесточенно заметил: – Я не собираюсь подчиняться вашим приказам, и нет закона, который запрещает мне курить тогда, когда мне захочется. Я американец и плевать хотел на всех, кто размахивает этим чертовым Юнион Джеком[1]. Вам на это тоже было указано! Оставьте меня в покое, сэр!
– Я слежу за тобой, капрал! – взорвался Грей. – Скоро ты сделаешь промашку, а когда ты сделаешь ее, я поймаю тебя, а потом посажу вон туда. – Его палец трясся, когда он показывал на грубую клетку из бамбука, служившую в качестве камеры. – Вот место, где тебе следует быть.
– Я не нарушаю никаких законов…
– Тогда откуда ты берешь деньги?
– Играю в карты. – Кинг придвинулся ближе к Грею. Он контролировал свой гнев, но сейчас был опаснее обычного. – Никто не дает мне ничего. То, что у меня есть, я заработал сам. Как я это сделал, касается только одного меня.
– До тех пор пока я начальник военной полиции, это касается не только тебя. – Кулаки Грея сжались. – За последние месяцы было украдено много лекарств. Может быть, тебе известно что-нибудь о них?
– Ну, вы… послушайте! – яростно возразил Кинг. – За свою жизнь я ни одной вещи не украл! Я никогда в своей жизни не торговал лекарствами, и не забывайте об этом! Черт побери, если бы вы не были офицером, я бы…
– Но я офицер и хочу дать тебе понять это. Клянусь Богом, я сделаю это! Думаешь, ты чертовски сильный? Но я заставлю тебя понять, что это не так!
– Я скажу вам одно: когда мы выберемся из этого дерьмового Чанги, найдите меня и я вручу вам вашу голову.
– Я не забуду сделать это. – Грей старался успокоить бешено стучащее сердце. – Но помни, до этого я буду следить за тобой и ждать. Я ни разу не слышал о везении, которое никогда не кончается. И твоему придет конец!
– А вот и нет, сэр!
Но Кинг знал, что в словах лейтенанта много правды. Ему везло. Очень везло. Но везение обеспечивается упорным трудом, расчетом и кое-чем еще, а не только риском. По крайней мере, риск должен быть рассчитан. Как вот, например, сегодня с этим бриллиантом… Целых четыре карата. Наконец он узнал, как добраться до него. Когда он будет готов к этому. А если он справится с этим делом, оно будет последним, и не надо больше рисковать, по крайней мере здесь, в Чанги.
– Твоему везению настанет конец, – злорадно заявил Грей. – И знаешь почему? Потому что ты такой же, как и все преступники. Ты слишком жаден…
– Я не обязан выслушивать эту чушь от вас! – с яростью перебил его Кинг. – Я не больше преступник, чем…
– Да ты и есть преступник! Ты все время нарушаешь закон.
– Черта с два! Может быть, японский закон…
– К дьяволу японский закон! Я имею в виду закон лагеря. Он гласит, что торговля запрещена. Это то, чем ты занимаешься?
– Докажите это!
– И докажу со временем. Ты совершишь всего лишь одну ошибку. А потом посмотрим, как ты выживешь вместе с остальными. В моей клетке. А после нее я лично прослежу, чтобы тебя отправили в Утрам-Роуд.
Кинг почувствовал, как похолодели его сердце и живот.
– Боже! – сдавленно произнес он. – Вы такой мерзавец, что можете сделать это!
– В твоем случае, – ответил Грей, на губах которого появилась пена, – это доставит мне удовольствие. Япошки ведь твои друзья!
– Ну ты и сукин сын! – Кинг сжал здоровый кулак и придвинулся к Грею.
– Эй, что здесь происходит? – поинтересовался полковник Брент, взбегая по ступенькам и входя в хижину.
Это был невысокий человек, рост которого едва дотягивал до пяти футов. Борода его была закручена под подбородком по сикхскому обычаю. В руках он держал офицерскую тросточку. На его армейской фуражке не хватало козырька, и вся она была залатана мешковиной; по центру фуражки сверкала, как золотая, эмблема полка, гладкая от полировки в течение долгого времени.
– Ничего… ничего, сэр. – Грей отмахнулся от мушиного роя, пытаясь справиться со своим дыханием. – Я просто… обыскивал капрала.
– Да ладно, Грей! – раздраженно оборвал его полковник Брент. – Я слышал, что вы говорили об Утрам-Роуд и япошках. Вы имеете полное право обыскать и допросить его, это всем известно, но у вас нет причины угрожать ему или оскорблять. – Он повернулся к Кингу; лоб полковника был покрыт каплями пота. – Теперь вы, капрал. Вам надо благодарить судьбу, что я не сделаю дисциплинарного доклада капитану Брафу относительно вас. О чем вы думаете, когда расхаживаете в подобной одежде? Этого достаточно, чтобы свести с ума любого! Напрашиваетесь на неприятности?
– Да, сэр, – сказал Кинг, внешне спокойный, но мысленно проклинающий себя за то, что потерял самообладание, ведь именно на это его и провоцировал Грей.
– Посмотрите на мою одежду, – продолжал полковник Брент. – Как, черт побери, вы считаете, я должен себя чувствовать?!
Кинг не ответил. Он думал: «Это твоя проблема, Мак… Ты следишь за собой, я слежу за собой…» На полковнике была только набедренная повязка, сделанная из половины саронга и обернутая вокруг талии – наподобие национальной шотландской юбки, а под повязкой уже ничего не было. В Чанги Кинг был единственным мужчиной, который носил трусы. У него их было шесть пар.
– Думаете, я не завидую вашим ботинкам? – раздраженно спросил полковник Брент. – Когда у меня есть всего лишь эти проклятые штуки.
На нем были сандалии утвердившегося образца – кусок деревяшки с прикрепленной к ней полоской ткани.
– Не могу знать, сэр, – ответил Кинг со скрытой покорностью в голосе, столь приятной для офицерского уха.
– Верно. Совершенно верно. – Полковник Брент повернулся к Грею. – Я считаю, что вы должны извиниться перед ним. Вы совершили ошибку, угрожая ему. Мы ведь должны быть справедливы, не так ли, Грей? – Он вытер пот, выступивший на его лице.
Грею понадобилось сделать над собой огромное усилие, чтобы оборвать ругательства, от которых подрагивали его губы.
– Я приношу извинения. – Произнесено это было тихо и раздраженно, отчего Кингу едва удалось подавить улыбку.
– Очень хорошо. – Полковник кивнул, потом взглянул на Кинга. – Ладно, – продолжил он, – можете идти. Но, одеваясь подобным образом, вы напрашиваетесь на неприятности. Винить вам надо только самого себя!
– Благодарю вас, сэр. – Кинг ловко козырнул.
Выйдя на солнце, он облегченно вздохнул и снова обругал себя. Боже, он чуть было не сорвался! Был близок к тому, чтобы ударить Грея, а это было бы действием сумасшедшего. Надо прийти в себя. Он остановился у тропинки и закурил. Проходившие мимо люди видели сигарету и вдыхали ее запах…
– Проклятый парень! – заявил наконец полковник, по-прежнему глядя в окно и вытирая пот со лба. Потом обратился к Грею: – Послушайте, Грей, вы и в самом деле спятили, если провоцируете его подобным образом.
– Виноват. Я… я считаю, что он…
– Кем бы он ни был, офицер и джентльмен не должен вести себя подобным образом. Плохо, очень плохо!
– Да, сэр. – Грею нечего было добавить.
Полковник хрюкнул, потом поджал губы:
– Совершенно верно. Удача, что я проходил мимо. Нельзя допустить, чтобы офицер скандалил с простым солдатом. – Он снова выглянул в дверь, ненавидя Кинга, страстно желая его сигарету. – Проклятый человек, – сказал он, не глядя на Грея, – недисциплинированный. Как и все американцы. Дурная компания. Они обращаются к своим офицерам по имени. – Он вздернул брови. – И офицеры играют в карты с рядовыми. Господи, спаси мою душу! Хуже австралийцев, а те – сброд, какого поискать. Несчастье! Совсем не похоже на индийскую армию… Что вы говорите?
– Ничего, сэр, – сказал Грей тонким голосом.
Полковник Брент быстро повернулся.
– Я не имел в виду – ну, Грей, – только потому, что… – Он запнулся, и внезапно в его глазах появились слезы. – Почему, почему они поступили так? – судорожно произнес он. – Почему, Грей? Я… Мы все любили их.
Грей пожал плечами, хотя ради приличия он должен был посочувствовать.
Полковник замялся, потом повернулся и вышел из хижины. Он шел наклонив голову, по его щекам текли тихие слезы.
Когда в сорок втором пал Сингапур, солдаты-сикхи, служившие под началом полковника, перешли на сторону врага, японцев, почти все до единого и принялись отыгрываться на своих английских офицерах. Сикхи стали первыми охранниками военнопленных, некоторые из них были хуже зверей. Офицеры не знали покоя. Потому что сикхи составляли большинство, солдат из других индийских полков было мало. Гуркхи сохраняли преданность даже под пыткой и невзирая на оскорбления. Полковник Брент оплакивал своих людей – людей, за которых он должен был бы умереть, людей, за которых он все еще умирал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Юнион Джек – название государственного флага Великобритании. – Здесь и далее примеч. перев., кроме особо оговоренных.