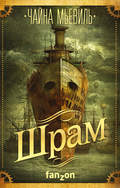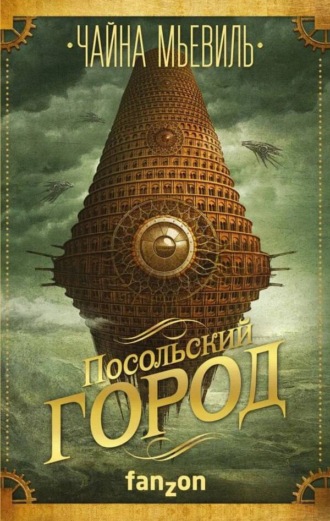
Чайна Мьевиль
Посольский город
0.2
Когда мне было семь лет, я покинула Послоград. Дежурные родители и братья и сестры по детской поцеловали меня на прощание. В одиннадцать я вернулась назад: замужней; не то чтобы богатой, но с кое-какими сбережениями и даже собственностью; умеющей драться, повиноваться приказам и нарушать их, когда следует; и погружаться.
Я научилась довольно прилично делать много разных вещей, но по-настоящему отличалась лишь в одном. И это было не насилие. Драки – всего лишь привычный риск припортовой жизни, и за годы жизни вовне я не намного чаще оказывалась побежденной, чем победительницей. Я выгляжу сильнее, чем я есть на самом деле, я всегда была торопыгой и, как многие посредственные драчуны, лучше владею техникой устрашения, чем собственно боя. Мне удавалось избегать столкновений, не празднуя труса в открытую.
В деньгах я мало понимаю, но скопить кое-что мне удалось. Не буду делать вид, будто моя сильная сторона – семейная жизнь, хотя и в этом я оказалась не хуже многих. У меня были, по очереди, два мужа и жена. Мы расставались, когда у кого-либо из нас менялись пристрастия, без всякой обиды, – я же говорю, семейная жизнь неплохо мне удается. Скайл был моим четвертым супругом.
Как иммерлетчица я дослужилась именно до тех чинов, к которым стремилась, – тех, которые давали положение и достаток, не налагая в то же время серьезных обязательств. В этом и была моя самая сильная сторона: в разработанной мною жизненной стратегии, объединявшей умение, удачу, нахальство и лень, – то, что мы называем словечком флокинг.
Думаю, что сами иммерлетчики его и выдумали. В каждом из нас сидит флокер. Словно черт на загривке. Не все члены команды стремятся к тому, чтобы овладеть этой техникой, – есть те, для кого главное быть капитаном или исследователем – но для большинства флокинг неотъемлемая часть профессии. Некоторые люди считают, что это обычное ничегонеделание, на самом деле это куда более активная и хитроумная позиция. Флокеры не боятся работы: начнем с того, что многим членам команды приходится изрядно повкалывать, чтобы их взяли на борт. Как мне.
Думая о своем возрасте, я все еще меряю его годами, хотя после стольких лет странствий пора бы уже и перестать. Это дурной тон, и жизнь на корабле должна была отучить меня от этого.
– Лет? – орал на меня один из моих первых офицеров. – Да мне насрать на то, какие там сидерические выкрутасы приняты на твоей занюханной планете, ты мне скажи, возраст у тебя какой?
Отвечай в часах. Отвечай в субъективных часах: офицерам плевать, замедляешь ты их по отношению к тому, что принято на твоей занюханной планете, или нет. Никого не волнует, какова длина года в том месте, где ты росла. А потому я покинула Послоград, когда мне было около 170 килочасов. Когда мне стукнуло 266 кч, я вернулась с мужем, сбережениями и кое-какими навыками.
Мне было уже почти 158, когда я узнала, что могу погружаться. И тогда я сразу поняла, что буду делать дальше, и сделала это.
Я отвечаю в субъективных часах; объективные держу в уме; я думаю в годах, принятых на моей планете, где сам принцип измерения времени связан с традициями другого места. Все это не имеет никакого отношения к Терре. Я как-то встречала одного молоденького иммерлетчика из такой глубокой дыры, что не знаю, как и сказать, где она находится, так вот он вел все расчеты в том, что сам называл «земными годами», дурачок. Я спросила его, был ли он сам в том месте, по календарю которого живет. И, конечно, оказалось, что он не лучше меня представляет, где это.
С возрастом я осознала, что во мне самой нет ничего особенного. То, что произошло со мной, случается далеко не с каждым обитателем Послограда – это верно, – но сама история была вполне заурядной. Я родилась в городе, который на протяжении тысяч часов считала целой вселенной. Потом я вдруг узнала, что вселенная куда больше, но вырваться на ее просторы я не смогу; а потом у меня появился шанс. Классика жанра – такую историю может рассказать вам кто угодно, не обязательно человек.
Вот еще одно воспоминание. Мы играли в погружение: надо было подкрасться к кому-то сзади так, чтобы остаться незамеченным, а потом вдруг заорать «Ныряй!» и схватить его руками. Мы мало что знали о погружении тогда, и наш сценарий, как мне позднее довелось понять, был лишь немногим страннее представлений о том же самом большинства взрослых.
Вся моя юность размечена двойным пунктиром прибывавших по очереди кораблей и миабов. Небольшие коробочки со всякой всячиной, без команды запущенные в пространство. Многие терялись в пути: как я потом узнала, навеки превращались в источники опасности разных форм и размеров, застряв в иммере, пересечь который так и не смогли. Но большая их часть все же достигала нас. Когда я стала старше, к волнению, с которым я ждала каждого такого прибытия, примешивалась злость, зависть, пока я наконец не поняла, что тоже вырвусь наружу. Тогда миабы превратились в намеки: призрачные шепотки.
В четыре с половиной года я видела поезд, который вез через город только что приземлившийся миаб. Как почти всем детям и многим взрослым, мне всегда хотелось самой видеть их приземления. Мы целой толпой пришли из детской, за нами смотрела и слегка нас сдерживала мама Квиллер – кажется, это была она, – а мы, дети постарше, надзирали за детишками помоложе. Нам удалось занять места у самых перил, вдоль них мы и вытянулись всей группой, лишь слегка разбавленной взрослыми, и болтали о прибытии.
Как всегда, миаб поместили на колоссальную платформу, и биоробот-локомотив, который волок ее по широкой просеке рельсовых путей в индустриальной зоне Послограда, пыхтел, толкаясь временными мускулистыми ногами в помощь работающему на пределе возможностей двигателю. Лежавший на спине миаб был больше главного зала в нашей детской. Самый настоящий контейнер, формой напоминавший курносую пулю, двигался под моросящим дождем. Его поверхность лоснилась, испуская струйки пара, которые, тонкими нитями поднимаясь над его кристальным защитным слоем, истаивали в ничто. Власти проявили безответственность, как я теперь понимаю, не дав этой пропитанной иммером поверхности успокоиться. Это был не первый миаб, который привозили в город еще сырым после долгого пути.
Я видела, как мимо проволокли дом. Вот на что это было похоже. Локомотив-гигант натужно свистел, машинисты заманивали его все дальше и дальше. Огромную комнату втаскивали на вершину холма к посольскому замку в окружении жителей, которые приветствовали ее, радостно крича и размахивая лентами. Комнату сопровождали кентавры: мужчины и женщины верхом на четвероногих биологических устройствах. Редкие горожане-экзоты тоже пришли посмотреть и стояли рядом со своими друзьями-терранцами: кеди топорщили шейное оперение, которое меняло цвет, шурази и паннегетчи издавали звуки. Были в толпе и автомы: от простых колченогих ящиков до хитроумных приспособлений тюрингского производства, выглядевших как активные участники встречи.
Внутри беспилотного корабля должен был лежать груз, подарки нам из Дагостина, а может, и из более далеких мест, импортные вещи, которых мы вожделели, программы для чтения и книги, программы новостей, редкая еда, техника, письма. Снаряд потом тоже растащат на запчасти. Я и сама регулярно посылала наружу разные вещи, когда снаряжались наши, куда более скромные, ежегодные миабы. Они увозили продукцию местных кузнецов и официальные документы (все тщательно скопированные перед отправкой – никто не верил в то, что хотя бы один миаб достигнет места назначения), и в каждом выделялось немного места для писем, которые дети посылали своим друзьям по переписке вовне.
– Миаб, миаб, послание в бутылке! – напевала мама Бервик, собирая наши письма. «Дорогой класс 7, Баучерч Хай, Чаро Сити, Бремен, Дагостин», помню, выводила я на конверте. «Жаль, что я не могу прилететь к вам в гости вместе со своим письмом». Краткие вспышки эпистолярного урагана, так редко настигавшего нас.
Следуя вдоль одного из водных путей, которые мы называли реками, хотя они были искусственного происхождения, миаб нырнул под Опорный мост. Я помню, что на нем были Хозяева с делегацией служителей посольства, которые стояли и смотрели вниз, сквозь витражные порталы моста, а по бокам от них возвышались на своих четвероногих живых машинах наши охранники.
Процессия уже ушла далеко вперед, когда безбилетный пассажир вырвался из миаба, но я видела все в записи. Дорога как раз шла между жилых домов с восточной стороны и садов для животных на западе, когда раздался первый треск. Случись это на километр дальше, в окружающих посольство кварталах с их густой застройкой и подвесными пешеходными мостиками, все было бы куда хуже.
Судя по сохранившимся записям, в толпе были те, кто сразу понял, что происходит. Треск нарастал, на его фоне усиливались крики, одни люди пытались предостеречь других. Кто-то из тех, кто понял, бросились бежать. Мы, дети, наверняка просто стояли, выпучив глаза, хотя мама Квиллер без сомнения делала все возможное, чтобы отогнать нас оттуда. Слышен звук, который производила керамическая оболочка миаба, изгибаясь вопреки всем законам механики Ньютона. Люди перевешивались через перила, чтобы разглядеть происходящее; но толпа заметно поредела.
Миаб лопнул, коварно рассылая осколки корпусного вещества высоко в воздух. Безбилетник из иммера вырвался наружу.
Таксономия не точна. Почти все специалисты сходятся во мнении, что вырвавшаяся в тот день из миаба тварь была лишь малым проявлением, тем, что я позже буду называть словечком «живулька». Сначала это был лишь намек на силуэт, сложенный из углов и теней. Он аккумулировался из окружающего, проявлял себя в преходящем. Кирпичи, пластон и цемент зданий, энергия клеток и плоть содержавшихся в них зверей выплеснулись из садов и устремились, вопреки все законам физики, к плывущему по воздуху силуэту. Они овеществили его. Дома словно сбрасывали шляпы, когда их крыши, один кусок черепицы за другим, стекали с них набок и вливались в сущность, которая с каждой минутой становилась все более материальной, все более приспособленной к реальности происходящего.
Его быстро загасили. Забили из пушек времени, которые с яростью насаждают посюстороннее, привычное, повседневное в противовес вечному из иммера. Повизжав несколько минут, тварь была изгнана или уничтожена.
К счастью, никто из Хозяев не пострадал. Однако были десятки других мертвых. Одних убило взрывом; другие уменьшились, частично перетекли в пришельца. С тех пор, поднимая миабы, служители неукоснительно соблюдали правила безопасности, которыми прежде иногда пренебрегали. По нашему три-дэ-видению показывали их регулярные споры, гнев и злость. Тот, кого тогда с позором выгнали со службы, оказался козлом отпущения всей системы. Молодой, лихой и недисциплинированный посол ДалТон так и заявил об этом в камеру в порыве гнева, и я помню, как обсуждали его слова родители. Папа Нур даже сказал мне, что после этой катастрофы торжественным встречам миабов вообще придет конец. Но он, конечно, ошибся. Он всегда мрачновато смотрел на жизнь.
Разумеется, мы, ребятишки, были просто одержимы случившейся трагедией. Не прошло и нескольких дней, а мы уже повторяли ее в играх, подражая треску рассыпающейся скорлупы миаба, бульканью пришельца из иммера, стреляя из пальцев и палочек в тех, кому временно выпадала роль монстра. «Живулька» стала для меня чем-то вроде поверженного дракона.
Есть такое мнение, вроде клише, будто иммерлетчики не помнят своего детства. Это, как вы видите, неверно. Люди говорят так только для того, чтобы подчеркнуть чужеродность иммера; дать понять, что в этой основополагающей инореальности есть нечто такое, отчего человеческие мозги становятся наперекосяк. (Не в прямом, конечно, смысле, но почти.)
Это неверно, но, с другой стороны, и я сама, и почти все знакомые мне иммерлетчики имеют действительно отрывочные, или смутные, или вывернутые воспоминания о том времени, когда мы были детьми. Я не думаю, что тут есть какая-то мистика: по-моему, все дело в устройстве наших мозгов, в том, как думаем мы, те, кому хочется вырваться наружу.
Я очень хорошо помню отдельные эпизоды, но именно эпизоды, а не всю цепь событий. Самые важные, решающие моменты. Все остальное хранится в моей голове в виде какого-то хаоса, и я, в общем-то, не против. К примеру: был в моем детстве еще один случай, когда я снова оказалась в компании Хозяев. Однажды утром третьего подмесяца июля меня вызвали на встречу.
За мной прислали папу Шемми. Сжимая мою руку повыше локтя, он привел меня в один из рабочих закутков нашей детской, заваленный бумажными и виртуальными свидетельствами труда. Комната принадлежала маме Солфер, и я никогда не бывала в ней раньше. Техника там была в основном терранская, хотя в углу тихонько жевала мусор приземистая биоробот-корзина. Солфер была немолодой, доброй, рассеянной, меня знала по имени – привилегия, которая распространялась отнюдь не на всех моих братьев и сестер. Жестом она велела мне подойти ближе, явно испытывая какую-то неловкость. Она встала, оглянулась, точно ища диван, которого в комнате не было, и села опять. За одним столом с ней – довольно смешно, если вдуматься, ведь стол был явно маловат для двоих, – сидел папа Реншо, относительно новый, вдумчивый, похожий на учителя дежурный отец, который улыбался мне; и, к моему изумлению, третьим, кто ожидал встречи со мной, оказался Брен.
После истории с Йогном прошел почти год, то есть 25 килочасов, и с тех пор ни я, ни кто-либо еще из нашей компании не возвращался к тому дому. Я, разумеется, выросла, большинство моих братьев и сестер тоже, но стоило мне войти в комнату, как Брен тут же улыбнулся мне, узнал. Он-то почти не изменился. Даже одежда на нем была как будто та же.
Мама пошевелилась. Хотя она и все остальные сидели по одну сторону стола, а я на жестком взрослом стуле, который она мне указала, по другую, то, как она повела бровями, глядя на меня, неожиданно открыло мне, что мы с ней заодно в этой истории, какая бы странность ни приключилась.
Мне, разумеется, заплатят, сказала она (позднее выяснилось, что на мой счет была переведена довольно крупная сумма); это совершенно безопасно; это большая честь. Я ничего не понимала. Вмешался папа Реншо. Он повернулся к Брену и сделал ему знак.
– Ты понадобилась, – сказал мне Брен. – Вот и все. – Он развел руки ладонями наружу, как будто их пустота сама по себе свидетельствовала о чем-то. – Ты понадобилась Хозяевам, и по какой-то причине они опять решили действовать через меня. Они что-то готовят. Планируются дебаты. Кто-то из них убежден, что сможет доказать свою правоту путем… путем сравнения. – Он умолк, желая убедиться, что я его понимаю. – Они… вроде как придумали его. Но события, которые оно описывает, еще не произошли. Ты понимаешь, что это значит? Они хотят сделать его произносимым. Поэтому им нужно его организовать. Буквально. А для этого им нужна живая девочка. – Он улыбнулся. – Теперь ты понимаешь, почему я попросил позвать тебя. – Наверное, у него больше не было знакомых детей.
Брен улыбнулся, наблюдая движения моего рта.
– Вы… хотите, чтобы я… сыграла стилистический прием? – выговорила я, наконец.
– Это честь! – вставил папа Реншо.
– Это действительно честь, – сказал Брен. – И я вижу, что ты это знаешь. «Сыграла»? – Он помотал головой, как будто говоря «да» и «нет» одновременно. – Не буду тебя обманывать. Будет больно. И не слишком приятно. Но я обещаю, что ничего страшного с тобой не случится. Обещаю. – Он наклонился ко мне. – И еще ты сможешь на этом заработать, как и сказала твоя мама. И. Еще. Ты получишь благодарность служителей. И послов. – Реншо вскинул на меня глаза. Я была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, в какой форме она может выразиться. К тому времени я уже имела представление о том, чем я хочу заняться, когда стану старше, а потому доброе отношение служителей мне бы не помешало.
Еще я дала тогда согласие потому, что надеялась попасть в город Хозяев. Но этого не случилось. Хозяева сами пришли к нам, в ту часть Послограда, где мне не доводилось бывать раньше. Меня отвезли туда на корвиде – это был первый в моей жизни полет, но я так волновалась, что не получила от него никакого удовольствия, – в сопровождении теперь уже не констеблей, а агентов службы безопасности посольства, чьи тела покрывали едва заметные выступы различных приращений и технических штучек.
Кроме них, со мной не было никого, ни одного родителя, только Брен, хотя он и не занимал никакой официальной должности при посольстве. (Это я узнала позже.) Просто тогда ему еще доверяли разные неформальные поручения, какие обычно давали служителям. Он старался быть со мной добрым. Помню, мы летели вдоль окраин Послограда, и я впервые в жизни увидала истинный размер тех колоссальных глоток, сквозь которые к нам попадали биороботы и припасы. Их коленчатые, мокрые и теплые трубы уходили на многие километры вдаль от наших границ. Я видела над городом и другие суда: это были биороботы, старые машины с Терры и химеры.
Мы приземлились в заброшенном квартале, который никто не позаботился снять с сетки. Хотя квартал был почти пуст, улицы освещали вечные неоновые и три-дэ духи, которые танцевали над нашими головами, рекламируя давно закрытые рестораны. В развалинах одного такого заведения нас ждали Хозяева. Их сравнение, как меня предупредили, требовало, чтобы я осталась с ними один на один, и Брен ушел.
При этом он слегка покачал головой, словно мы с ним соглашались в том, что происходящее отдает абсурдом. Он шепнул мне, что это не займет много времени и что он будет меня ждать.
Происшествие в том заброшенном обеденном зале с осыпающимися стенами ни в коем случае не было самым худшим, болезненным или неприятным из всего, что мне когда-либо довелось испытать. С этой точки зрения оно было вполне терпимым. Однако события более непонятного не случалось за всю мою жизнь ни до, ни после того. Я даже удивилась, до какой степени меня это расстроило.
Долгое время Хозяева вообще не обращали на меня внимания, увлеченно копируя какие-то движения. Они поднимали дающие плавники, делали шаг вперед, потом назад. Я чувствовала исходящий от них сладкий запах. Мне было страшно. Я готовилась: качество сравнения зависело от того, насколько точно я сыграю свою роль. Они заговорили. Я поняла лишь самую малость, выхватывая из сказанного то одно, то другое знакомое слово. Вслушиваясь в наплывающие друг на друга шепоты, я ждала одного слова – «она» – и, когда оно прозвучало, я вышла вперед и сделала то, что им было нужно.
Теперь я знаю, что сделанное мною тогда называется диссассоциацией. Я наблюдала за всем, что происходило, в том числе и за собой. Мне не терпелось, чтобы все поскорее кончилось; я ничего не чувствовала, никакого усиления связи между Хозяевами и мною. Я только наблюдала. Выполняя действия, необходимые для того, чтобы потом они могли произносить свое сравнение, я думала о Брене. Он, разумеется, не мог больше говорить с Хозяевами. Событие организовало посольство, и я считала, что бывшие коллеги Брена, послы, наверное, были рады дать ему возможность помочь. Но поручили они ему какую-нибудь настоящую работу или нет, я не знаю.
Когда все кончилось и я вернулась в юношеский центр, друзья накинулись на меня, требуя подробностей. Мы ведь были дикие, как все послоградские дети.
– Ты была с Хозяевами? Круто, Авви! Честно? Честно, как Хозяин?
– Честно, как Хозяин, – произнесла я подходящую случаю клятву.
– Ничего себе. А что они делали? – Я показала синяки. Мне и хотелось и не хотелось говорить об этом. Постепенно я полюбила пересказывать то происшествие, привирая и приукрашивая его. Оно много дней выделяло меня среди остальных.
Другое следствие оказалось важнее. Два дня спустя папа Реншо отвел меня к Брену. Я не была в его доме с того случая с Йогном. Брен улыбнулся, поздоровался и провел меня внутрь, где я впервые в жизни повстречала послов.
Одежды красивее, чем у них, я никогда ни у кого не видела. Их обручи сверкали, их огоньки мигали в одном ритме с полями, которые они генерировали. Я была потрясена. Их было трое, и в комнате стало очень тесно. Тем более что позади них, двигаясь из стороны в сторону, перешептываясь то с Бреном, то с кем-то из послов, находился автом, компьютер с сегментированным корпусом, женское лицо которого оживлялось с каждой сказанной фразой. Я видела, что послы стараются тепло говорить со мной, ребенком, как раньше старался Брен, но опыта им не хватает.
Женщины постарше спросили:
– Ависа Беннер Чо, верно? – Голос у них был изумительный, величественный. – Подойди. Сядь. Мы хотим поблагодарить тебя. Мы думаем, тебе следует услышать, как тебя канонизировали.
Послы заговорили со мной на языке Хозяев. Они произносили меня: они говорили меня. Они предупредили меня, что прямой перевод сравнения окажется неточным и обманчивым. Одна человеческая девочка, которая, превозмогая боль, съела то, что ей дали, в комнате, предназначенной для еды, где давно никто не ел.
– Со временем оно сократится, – сказал мне Брен. – Скоро тебя будут говорить как девочку, которая съела то, что ей дали.
– Что это значит, скажите, пожалуйста?
Они качали головами, поджимали губы.
– Не имеет значения, Ависа, – сказала одна из них. Она пошепталась с компьютером, и я видела, как опустилось в кивке созданное им для себя лицо.
– Кроме того, это все равно будет неточно. – Я спросила еще раз, иначе, но они больше не желали об этом говорить. И все поздравляли меня с тем, что я стала частью Языка.
Дважды за время моего отрочества я слышала, как говорят меня, мое сравнение: один раз это был посол, другой – Хозяин. Годы, тысячи часов спустя после того, как я исполнила это сравнение, мне его, наконец, вроде как объяснили. Передача, конечно, грубовата, но, по-моему, им пользуются с некоторой долей удивления и иронии, когда хотят выразить обиду и подчинение судьбе.
За все мое детство и юность я больше ни разу не говорила с Бреном, но, как я выяснила, он приходил к моим дежурным родителям еще раз. Уверена, что именно моя помощь в создании фигуры речи и неявное покровительство Брена помогли мне пройти экзамены. Я много занималась, но интеллектуалкой не была никогда. Я обладала качествами, необходимыми для иммерлетчика, но не больше, чем остальные, кто экзаменовался со мной, и даже меньше, чем иные из тех, кто не прошел. Карты на выезд получили немногие гражданские и те из нас, кто проявил способность путешествовать в иммере, не впадая в сон. Не было никаких особых причин, почему несколько месяцев спустя, когда все тесты были пройдены и мои способности признаны, мне все же дали право покинуть мой мир и выйти вовне.