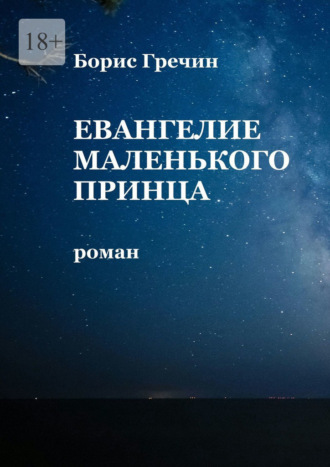
Борис Сергеевич Гречин
Евангелие Маленького принца
Фотограф Фостер Тим
Корректор Екатерина Сергеевна Смоленская
© Борис Сергеевич Гречин, 2024
© Фостер Тим, фотографии, 2024
ISBN 978-5-0064-0693-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Всем, кто поддержал меня осенью 2023 года.1
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Текст, который лежит перед читателем, является попыткой рассказать о моём знакомстве с замечательным, выдающимся человеком необычных талантов и особенной глубины: качество, очень редкое для нашего мелкого времени. Художественная проза – нечто вроде повести или романа – сейчас кажется мне лучшей формой для такого отчёта. Так ли это на самом деле, я, увы, не знаю.
Против художественной формы говорит её легковесность. Кто только сейчас не пишет прозы! Число пишущих давно перевалило за число читающих, и надежда на то, что мой «художественный отчёт» прочитают многие, крохотная. Но ведь я пишу в основном для себя. Или не только для себя? Правильнее будет сказать: для немногих. Примерно так, видится мне, для очень немногих записывались первые Евангелия, и читались они тоже в узком кругу, в каком-нибудь римском подвале…
(Какое нескромное сравнение! Собирался его вычеркнуть, но подумал, что лучше оставить, или кто-то подумал это за меня. Видимо, написание прозы сродни магии: вначале вы наивно считаете, что будете повелевать воображаемыми людьми, царствами и континентами, а потом вокруг вас летают одушевлённые предметы и всяческие страшилища, вы же ничего не понимаете и только с оторопью наблюдаете эту пляску.
Сравнение с первыми Евангелиями – вызывающее, но сейчас, после того, как его выронил, я уже не могу им самостоятельно распорядиться, потому что оно может быть правдой, а от правды лучше не уходить в сторону, как лучше не уходить в сторону от правды в исковом заявлении, даже если истцу очень этого хочется. Да, эта работа – куда тяжелее, чем мне казалось.)
Если писательское дело сродни магии, то я – плохой маг, маг, который не знает заклинаний, и это – второе соображение против моей затеи. Моя писательская квалификация явно недостаточна. Я умею связно и грамотно излагать факты и мысли на русском языке: в конце концов, это часть работы юриста. Но у меня нет никакого представления о так называемых художественных приёмах, тем более нет никакого навыка последовательно их использовать. (Использует ли их кто-нибудь из больших писателей последовательно и сознательно, или это – один из тех мифов, ответственность за создание которых лежит на средней школе? Вопрос, на который мне никто не даст правдивого ответа, хотя, конечно, ответов можно найти сколько угодно, на любой вкус.)
Скажу больше: если бы у меня и был навык в обращении с фигурами речи, мне было бы даже противно украшать ими своё почти документальное повествование.
Почти, но, выходит, не совсем, не зря же я в прошлом предложении написал это «почти». Мой рассказ будет стремиться к наибольшей возможной точности и достоверности, но не может её обещать. Мои способности ограничены: боюсь, мне до сих пор непонятно многое из того, что случилось со мной в последний месяц (неполный месяц: июнь ещё не закончился). Рассказу десятилетнего ребёнка о запутанном судебном процессе едва ли можно верить полностью, хоть сам этот ребёнок и будет убежден в том, что он всё передал слово в слово, да и как иначе, ведь он – уже зрелая и ответственная личность. Как хорошо, что я вижу сейчас: можно быть «зрелой и ответственной личностью» в нашем обыденном мире, а в другом мире – даже не подростком, а кем-то вроде младенца.
Месяц назад я не видел даже этого, хотя, наверное, предчувствовал. Предчувствовал ли?
Все важные для меня недостатки художественной прозы по сравнению с, например, дневниковыми записями названы, а я всё-таки продолжаю. Значит, в ней есть и достоинство. То, что является недостатком – легковесность, необязательность, – оказывается и достоинством. Стóит мне произнести это стандартное писательское заклинание, единственное, которое я пока разучил – «Все имена и герои вымышлены, все совпадения случайны», – и я могу не бояться ничьих упрёков в искажении совершившегося. Для читателя всё, что я пишу, – уже вымысел, всё заранее умножено на ноль, и этот вымысел я могу излагать как Бог на душу положит. Среди гор словесного мусора про стреляющие лазеры, остроухих эльфов, мохноногих оборотней и красоток с узкой талией найдётся, наверное, место и моему сочинению.
(Но ведь сам для себя я не могу отклониться от правды: это будет бесчестным поступком, даже если никто, кроме меня, не обнаружит эту бесчестность. Не могу – а при этом и сам не знаю окончательной правды, да и кто может похвастаться тем, что знает? Пилат с его вопросом и с его развитым юридическим сознанием это, кажется, хорошо понимал. Вот, теперь откуда-то взялся Пилат, о котором я, честное слово, за миг до его появления даже не думал, явился и нахально уселся посередине этого абзаца на своём трёхногом табурете или на чём там сидели римские прокураторы. Писательство – адское занятие, и, видимо, ещё не раз пожалею, прежде чем дойду до конца.)
Птица зимородок с её длинным тонким клювом иногда врезается в дерево и застревает в нём. Так и я: не успел пролететь и двух страниц, как уже застрял в своих мыслях о том, как писать, для чего и для кого это делать. Единственный выход – поскорее переходить к началу моей истории. Однако перед собственно её началом вынужден сказать несколько слов о себе самом. Не то чтобы моя скромная персона может быть интересной читателю – я и самому себе не очень интересен, – а просто так, кажется, принято. Умения у меня в этом новом деле немного, оттого буду следовать сложившимся традициям.
2
Меня зовут Олег Валерьевич Поздеев, мне тридцать девять лет («…И я алкоголик», – подсказывает мне насмешливый ум, но нет: никаких по-настоящему пагубных привычек у меня никогда не было. Не считать же общую бесцветность личности пагубной привычкой. А я действительно бесцветен? Другие люди по-разному отвечают на этот вопрос.)
Я являюсь юристом общего профиля в федеральной юридической компании с названием «Восход», имеющей представительства почти во всех крупных городах. Вы можете обратиться к нам и воспользоваться нашими услугами, впрочем, это упоминание не является рекламой, а к дальнейшему рассказу место моей работы не имеет никакого отношения. До «Восхода» я работал юрисконсультом в крупной частной клинике, а до того – на аналогичной должности в муниципальной поликлинике.
Я почти люблю свою теперешнюю работу, в основном за разнообразие задач и обязанностей: оно не даёт мне ни заскучать, ни заржаветь, ни скатиться в тупую рутину. В любом случае, я стараюсь делать её добросовестно, и в фирме я на хорошем счету.
Пару лет назад я думал об аттестации на статус адвоката и открытии собственного адвокатского кабинета. Я и сейчас не распрощался с этими планами полностью, но, видимо, придётся с ними повременить…
Я живу в однокомнатной городской квартире, купленной мной после развода, и езжу на работу на десятилетней Daewoo Nexia, одной из трёх рабочих лошадок современного офисного пролетариата (другой считают Renault Logan, а третьей – «Ладу Гранту»). Мои коллеги уже несколько раз сказали мне, что моя машина «ниже моего статуса», но меня эта старушка пока полностью устраивает. На случай внезапного увольнения у меня в банке на депозите лежит финансовая подушка, примерно равная моему окладу за полгода.
Словом, я самая обычная «офисная креветка» (вот моё первое сравнение, первая «фигура речи», над которой настоящие литературные мастера только посмеются), совершенно заурядная личность, незаметная часть людской массы, кто-то, о ком мне самому и в голову бы не пришло писать роман. Да и никому бы не пришло в голову, разве только некий новый Гоголь захотел бы меня сделать новым Акакием Акакиевичем. Нет, неправда: чтобы быть Акакием Акакиевичем, нужна какая-то особая согнутость перед жизнью, так чтобы униженность доходила до настоящего удовольствия. Акакий – маленький человек, а я – средний, и комплексами в отношении своего имени я тоже никогда не страдал.
Вероятно, крупному писателю даже маленький человек интереснее, чем средний: этот безнадёжный тупик духа, «киевский мещанин» и убийственный в своей пошлости обыватель. Наверное, это именно про меня и людей вроде меня пролетарский поэт предлагал: «Скорее головы канарейкам сверните, // Чтоб коммунизм канарейками не был побит!» Вот уж спасибо, danke schön (в школе я учил немецкий). Канарейки у меня, кстати, никогда не было (была в детстве собака, о ней расскажу где-нибудь дальше), и о реставрации коммунизма я тоже не мечтаю: при нём, глядишь, каждому третьему лишённому героических порывов обывателю и правда свернут голову. Социализм с человеческим лицом – другое дело, но его государство построит и без моих ценных советов. На всех прошедших выборах я голосовал за действующего президента, дай Бог ему здоровья. Пишу последнее с лёгкой иронией, но без всякого сарказма, озлобления или горечи.
Думаю, что люди, подобные мне, не интересны никакой литературе, ни бульварной, ни большой. (Замечаю, что повторяюсь, и беспомощно гляжу на этот повтор, не зная, как от него избавиться, чтобы не обрушить прошлый абзац. Наверное, настоящие писатели избегают повторов инстинктивно, механически.) Тому, что я всё же продолжаю писать этот текст, есть лишь одно оправдание: он – не обо мне. Сравнение с настоящими Евангелиями действительно очень нескромно, но разве в Евангелии от Матфея много сказано о Матфее? А ведь Матфей был всего лишь сборщиком налогов: профессия вроде моей, вполне себе «офисная» и невыразительная. (Забыл сказать, что в начале своей карьеры я всерьёз рассматривал службу или в налоговой, или в таможне. Решись я на последнее, стал бы сейчас, наверное, уже майором таможенной службы.) Вот хотя бы этим первый евангелист мне близок. В моей квартире есть «красный угол», и небольшая иконка слева от Спасителя – образ Левия Матфея. Одно время я почти стыдился своего красного угла и убирал его перед приходом гостей, а теперь перестал так делать. Гости смотрят на образ Спаса, иногда меняются в лице, но ничего не говорят. Впрочем, не то чтобы у меня много гостей…
Приходит мне на ум, что были и у Матфея в его мирской профессии свои непостыдные удачи, достижения, яркие события, всякие прищученные еврейские толстосумы, которые в Евангелиях не упомянуты. Да и то: много для них чести. Упомянут, однако, он сам – и тем, что Священное Писание не побрезговало моим коллегой, обычной офисной канарейкой, даже вознесло его до апостола, оно обнаруживает себя гораздо милосерднее любой художественной литературы. Я при этом не фанатик и вовсе не считаю, будто все книги на свете нужно свести к проповеди, а из остальных устроить большой костёр. (Какое там «фанатик», если я даже не знаю, не знаю до сих пор, верующий ли я человек, и во что верующий! Это несмотря-то на красный угол? Да, несмотря на красный угол: он в любом случае никому не вредит.) Я не считаю так. Но я бы устыдился писать просто для чужого развлечения, и я смею надеяться, что мои мотивы хотя бы немного схожи с мотивами первого евангелиста, который по традиции тоже изображается с книгой в руке.
3
Выше я упомянул про свой развод. Почти половина всех браков в России заканчивается разводом, и здесь в моей истории нет ничего необычного. Правда, люди в России редко разводятся дружелюбно, и я рад, что хотя бы в этой мелочи отклоняюсь от статистической нормы.
С Кристиной мы познакомились во время моей службы юрисконсультом в частной клинике – она в той же клинике работала секретарём регистратуры. Странно сказать, но до Кристины длительных отношений с девушками в моей жизни не складывалось: только короткие знакомства, некоторые – с бурными переживаниями, но отчего-то ни одно не закончилось ничем серьёзным.
Девичья фамилия Кристины – Ромашова, что для меня стало дополнительной «точкой притяжения»: я очень люблю Куприна вообще, «Поединок» и трагическую фигуру подпоручика Ромашова в частности. Я в принципе со школы люблю русскую литературу, хотя у меня никогда не возникало желания заняться ей, что называется, профессионально. Я не понимаю содержательной части этой профессии, хотя моё непонимание очень далеко от желания бросить камень в школьных учителей или университетских преподавателей. Воспитание гуманизма – дело, само собой, важное, но «гуманизмом мальчики в детстве занимаются», как сказал адмирал флота в одном из современных фильмов (кажется, в «Дне радио», именительный падеж – «День», хотя и «Дно» тоже бы сгодилось). Очень грубо, и Кристине, пожалуй, не понравилось бы, но что-то в этой грубой шутке есть, что описывает моё, да и не только моё, отношение к литературе. В конце концов, всё хорошо в своё время, поэтому оставим Куприна детству и юности.
В самой Кристине, вопреки её девичьей фамилии, не содержалось и сейчас не содержится никакой трагической непóнятости, никакой неприкаянности; свою фамилию она, когда пришло время, без колебаний поменяла на мою, хоть я и предлагал ей оставить добрачную: всё же «Кристина Ромашова» звучит лучше, чем «Кристина Поздеева». Она только с улыбкой отмахнулась: мол, не говори ерунды.
Но, хоть в моей бывшей жене не имелось ничего от подпоручика Ромашова, будет несправедливо изображать её этакой циничной прожжённой бабёнкой. Совсем напротив, все восемь лет нашего брака она была для меня почти идеальной женщиной: физически привлекательной, неглупой, деликатной. Никогда я не замечал в Кристине никакой чисто женской вульгарной истеричности, которая так осложняет иные браки. Больше того, никогда за всё время нашего брака кроме, пожалуй, последнего его месяца мне не приходило в голову, будто нашим отношениям что-то угрожает или может угрожать.
А между тем люди иногда расстаются, даже если у них, казалось бы, всё хорошо: на Западе – всё чаще, в этом смысле моя семейная жизнь оказалась очень «западной». Между нами не сложилось всё совсем уж хорошо, и началось это, пожалуй, в самый первый год, в период привыкания друг к другу.
Не смогу сейчас точно сказать, что же именно оказалось не так. Может быть – это, оговорюсь, только предположение, – так вот, может быть, Кристине виделось, что я словно чуть-чуть, самую малость молчаливо осуждаю её и её «приземлённость». Нет необходимости говорить, что и в помине этого не было. Я не считаю сам себя неким высокодуховным человеком, и мне, конечно, даже в голову не пришло бы жаловаться, да хоть полусловом намекать на узость чьих-то интересов. Этой узостью она попрекала сама себя, всё время в шутку: дескать, вот такая ограниченная жена тебе досталась! Но нельзя же всё время безнаказанно шутить одну и ту же шутку, так можно в неё и самому поверить…
Выше я написал, что ничего «ромашовского» в Кристине не имелось, но полной правды этим не сказал. Это – правда на девять десятых, даже на девяносто девять сотых, но одна, не пóнятая мной сотая, остаётся, как остаётся она во всякой женщине для любого мужчины. Кристина всегда хотела чего-то большего, чем просто работать регистратором частной клиники, а после – менеджером мебельного салона (неожиданная и удивившая меня смена профессии), и дело вовсе не в том, будто она честолюбиво целилась в кресло главврача, директора мебельной фабрики или, скажем, жены олигарха. Ей не нравилось, что в этом мире, достаточно, правда, сносном, нет ничего, кроме вот этой его повседневной переносимости. Ей не нравилась она сама – но ей недоставало сил, времени, таланта изменить себя в лучшую сторону. «Мне хотелось бы развить фантазию, – обмолвилась она однажды со смешком, – но я ума не приложу, как это делать. Мне не хватает фантазии».
Задним числом я думаю: какая, должно быть, знакомая картина для сотен женщин в наше время! Наверное, для сотен мужчин тоже.
Возможно, она и за меня-то вышла замуж потому, что разглядела во мне, «в глубине этих честных серых глаз» (её собственное выражение) надежду на некое тайное знание о том, как устроить жизнь самым верным и безупречным образом. Если и правда так, то – поразительно: ведь я ни её, ни кого-то другого никогда не уверял, будто обладаю таким знанием.
Помню, в первый год нашего брака мы активно путешествовали, на выходных, а иногда и взяв день-другой за свой счёт, и всегда её глаза загорались, когда мы начинали обсуждать, что вот, хорошо бы в этот месяц добраться до Плёса, Суздаля, а то и, подумай-ка, до Великого Новгорода. Эти короткие поездки словно обещали раскрытие важной тайны: казалось, ещё чуть-чуть – и мы всё поймём о жизни. Может быть, мы просто не умели смотреть под нужным углом, но эти обещания так и остались только обещаниями…
4
На второй год нашего брака у нас родилась дочь, которую мы – после некоторых споров – назвали Мирой. Мира – это усечённый и переделанный на русский лад вариант Розамунды, к которому мы пришли в качестве компромисса. Моя жена вначале всерьёз хотела назвать дочь именно Розамундой! Она как раз в последние месяцы беременности читала «Джейн Эйр». (Русскую литературу Кристина, в отличие от меня, не любила.) Розамунда Олеговна, просто замечательное сочетание, и мне в итоге удалось донести до Кристины, как комично такое имя звучит рядом с таким отчеством. У моей жены всё же было чувство юмора, ну, или чувство буржуазного здравого смысла, и в итоге она согласилась на Миру, с одной «р», чтобы ни у кого не появилось ненужной мысли о еврейских корнях нашего ребёнка.
Первые год-два всегда утомительны и почти у всех родителей одинаковы, но Мира даже в своём младенчестве не создавала особых хлопот. Она развивалась очень быстро, рано заговорила, а читать начала в пять лет – не посещая никакие кружки раннего развития, как-то незаметно. Мира любила сказки и легко, без всякого видимого труда запоминала стихи, что Чуковского, что Бориса Заходера, что «Царя Салтана» – всё это я поспешил ей купить в современных изданиях. Меня радовал, да что там, просто восхищал её хороший вкус. Ей были малоинтересны мультфильмы, особенно современные. «Свинку Пеппу» Мира, к примеру, терпеть не могла и однажды детским языком, но с недетской серьёзностью объяснила мне, чтó именно ей не нравится в этом шедевре британской мысли. Я не воспроизведу её речи буквально, но, по её словам, вся семья Свинки Пеппы, а именно сама Свинка, её братишка Джордж, Мама Свинка и Папа Свин, в одном из выпусков с удовольствием перемазались в грязи, будто так и должно быть. Куда же это годится! Ничего в этом нет ни весёлого, ни смешного.
После я отдельно посмотрел серию, о которой говорила Мира, и, конечно, с ней согласился. «Свинки Пеппы» в нашем доме больше не было. Не хочу звучать как Никита Михалков или любой другой седовласый столп отечества, мне не к лицу, но серия-то действительно пророческая. Зреет новое поколение – и сначала само лезет в грязь, а после тащит в ту же грязь своих отцов и матерей, и это – духовное лицо современной культуры.
«Маша и медведь» задержались в нашем доме подольше, но тоже скоро наскучили. Так же быстро ей надоедали всякие куклы и кукольные домики, на которые Кристина не жалела денег: дня два-три наша дочь возилась с новой покупкой, а потом давала ей отставку.
Напротив, в том, как Мира смотрела на меня, я всегда читал искреннее любопытство, трогательное и совершенно неожиданное, даже, думалось мне, незаслуженное. Ей были интересны почти все мои занятия и почти всё, что я говорю, особенно когда я не подделывался под специальный «детский» тон, а разговаривал с ей «как с большой». Разгадав эту её черту, я почти всегда так и поступал. Например, порой я брал работу на дом, и, когда Мира спрашивала меня, чем это я занимаюсь, отвечал теми же словами, которыми ответил был коллегам из «Восхода». Не знаю, как многое она понимала, но её такие ответы устраивали гораздо больше, чем что-то вроде «Папа читает бумажки, чтобы заработать денежек». Упрощённых пояснений она терпеть не могла, даже сердилась на них. Этот её маленький гнев выглядел очень комично в четыре года, но я быстро обнаружил, что совсем не хочу развлекать себя за её счёт и видеть в живом человеке подобие комнатной собачки. Кристина была меньше чувствительна к таким вещам, для неё «Олег, смотри, как забавно она надулась!» было в порядке вещей.
Странно, но между Мирой и Кристиной так и не родилось никакой настоящей теплоты. Мою жену я ни в чём не мог упрекнуть, со своей дочерью она всегда была приветлива – ну да, с оттенком лёгкой насмешливости, снисхождения, такого естественного от взрослого к ребёнку. Но с каждым годом эта приветливость всё больше начинала напоминать вежливость медсестры по отношению к глубоко пожилому пациенту. Я понятия не имел, в чём тут было дело, и никогда даже и не пробовал заговорить об этом с Кристиной: такие разговоры мне виделись, и видятся, глубоко бестактными, да и в чём я по существу мог бы её упрекнуть?
Мира словно платила Кристине тем же. Нет-нет да и возникала у меня фантазия, будто когда-то в раннем детстве дочь однажды осмотрела свою маму очень внимательным взглядом с головы до пят, а, осмотрев, дала ей оценку, и оценка эта оказалась всего лишь «проходным баллом». Такое ведь обидно знать про себя, правда? Мира с самого раннего детства была достаточно деликатной и никогда не огорчала маму, никогда не давала понять то, о чём я только что написал, но всё же я угадывал отсутствие большой сердечности, причём с обеих сторон, а ведь я – всего лишь мужчина, мужчины же, как считается, в таких делах приглядчивы куда меньше, чем женщины. Кристина и тем более должна была это замечать. Замечала ли моя жена, что и мне это заметно? Скорее всего…
Рискую предположить, что в отстранённости Кристины от Миры была доля ревности – или «обиды» будет более точным словом? Это ведь сравнительно легко – быть папой час или два в день: забрать из детского сада, ответить на десяток «Почему?», почитать книжку. Быть мамой растущего ребёнка гораздо сложнее, и «сложнее» должно бы по справедливости вознаграждаться большей привязанностью, большей любовью. Но не вознаграждалось: люди отчего-то любят нас не за то, что мы для них делаем, а за что-то совсем другое, и к маленьким людям это тоже относится. А ещё в Мире – я всё это расчисляю, понимаю задним умом, уже после, недаром же я «Поздеев», вечно опоздавший, как кто-то истолковал мою фамилию, – ещё в Мире виделось то самое «ромашовство», та необычность, которую Кристина тщетно пыталась в себе как-то воспитать, где-то найти, которую её дочь откуда-то брала не думая, просто поднимала с полу. Мире никогда бы, например, не пришло на ум пожаловаться, что ей не хватает фантазии: ей фантазии всегда хватало, а также хватало интереса, ума, внимания к тому, что по-настоящему важно, наблюдательности…
Я забыл, верней, просто, не успел рассказать, что Мира любила слушать моё чтение, причём преимущественно стихов, причём – когда ей однажды, после её же вопроса о том, что ещё написал автор «Сказки о царе Салтане», открылся зрелый Пушкин, – серьёзных, «больших» стихов (так что мне пришлось освежить библиотеку, достать кое-что из кладовки, прикупить несколько новых изданий). Она их слушала с каким-то восторгом, полуоткрыв рот, округлив глаза: ритм звучащей речи действовал на неё гипнотически. В этом слушании отсутствовала бездумность наивного новичка, напротив, в нём была своя взыскательность, своя, я бы сказал, высокая избирательность. Например, Даниила Хармса и Николая Олейникова Мира с негодованием отвергла, заявив, что это ерунда, невзаправду, детский сад, что эти «взрослые мужчины» (она именно так и сказала) кривляются как дети. И наоборот, Лермонтов, поэт совсем не детский, сражал её наповал, и чем сложнее оказывалось стихотворение, тем больше оно впечатляло. От «Бородино» моя дочь только морщила носик. «Как часто, пёстрою толпой окружён» она выслушала притихшая, не проронив ни слова. А «Печальный демон, дух изгнанья» – о, это был наш хит! Особенно диалог Демона и Тамары, отдельные фразы из которого Мира заучила наизусть и бормотала себе под нос. Марина Цветаева, помнится, вспоминала где-то, как её в раннем детстве поразили Татьяна и Онегин, и я, когда пишу это, с трудом могу удержаться от самодовольного смешка: моя-то дочь в философски-метафизическом смысле оказалась разборчивей Цветаевой…
Кристине всё это не нравилось, то есть нравилось, что я добросовестно исполняю обязанности отца, но всему же нужно знать меру! И что за стихи такие, которые даже в школе не проходят? Я точно уверен в том, что это полезно ребёнку? «А наказанье, муки ада» – что это за средневековый мрак, Олег? – и ведь Мира даже не крещёная! (Не знаю, как одно увязывалось с другим, и какая опасность читать некрещёным детям про «наказанье, муки ада», если для них это всего лишь сказки и безобидные страшилки? С другой стороны, крещёным детям читать про это сам Бог велел.) Мы с женой, можно сказать, никогда не ссорились, но однажды почти поссорились, и, смешно, всё из-за того же «Демона». Одна из самых странных претензий, которые я в тот раз услышал от жены, состояла в том, что ей я никогда не читал Лермонтова, даже в период ухаживания! На следующий день мы оба были само дружелюбие и такт, причём Кристина пошла на примирение первой: неправа, погорячилась, нашёл шалый стих, ты – прекрасный отец… но всё же с «наказаньями, муками ада» будь, пожалуйста, осторожнее. И ещё хотела тебя предупредить: то место, где «он слегка // Коснулся жаркими устами // Её трепещущим губам», тоже читать не надо, не по возрасту. (Я и так обычно выпускал это место, что вызывало у дочери подозрение и законное негодование. Думаю, она его нашла в книге и прочитала в моё отсутствие.)
Однажды Мира сообщила мне, что, когда вырастет, обязательно будет сама писать стихи.
– Почему бы тебе прямо сейчас не попробовать? – спросил я, больше в шутку.
– Господь с тобой! – ответила мне Мира с полной серьёзностью. – Я ведь ещё не умею.
Не знаю, где уж она подхватила это старообразное «Господь с тобой», в детском саду или от бабушки Лиды. Тогда словечко меня просто заставило улыбнуться, а сейчас задевает какую-то тяжёлую струну. Эта струна звенит внутри и никак не может успокоиться. «Господь с тобой!» Если бы точно знать, что со мной!



