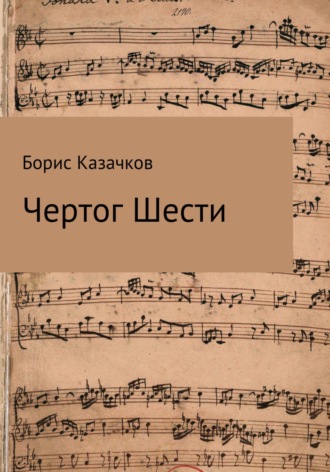
Борис Самуилович Казачков
Чертог шести
О жанровой ориентации (в связи с надтекстом)
Облигатное трёхголосие (трио-фактура с педальным басом) однозначно определяет эти сочинения как сонатные. В то же время трёхчастность (кроме четвёртой сонаты) и композиционные черты частей отклоняют такую ориентацию в сторону соотносимости этих сонат с концертным жанром. Это обстоятельство даёт Р. Кизеру повод и основание для нижеследующего рассуждения.
Сочинения, о которых здесь идёт речь, наименованы сонатами. Между тем многое в них как бы противоречит этому надписанию. С формальной точки зрения лишь соната №4, будучи четырёхчастной, совпадает в общей характеристике своего цикла приблизительно со старыми церковными сонатами и довольно точно с сонатами современников и учеников И. С. Баха6. Но эта соната стоит в Шестёрке вообще особняком, о чём ещё предстоит речь. Всё же остальные сонаты имеют три части, и эта трёхчастность, а также облик и формальные особенности частей сближают их в значительной степени к концертному жанру, так что наименование «соната» приобретает некое значение нарицательное, с одной стороны (sonare = звучать: циклическая инструментальная пьеса, жанровая ориентация которой определяется свободно и не оговаривается особо) и значение иносказательное, указывающее на некий тайный смысл – с другой. Пьесы, которые внешне имеют облик концерта, я называю сонатами, вкладывая в них тем самым нечто, что они сокрывают под видом концерта – так как бы говорит Бах этим наименованием. С сонатным жанром в большей мере, чем с концертом, связаны идеи программности… Здесь, как полагает Кизер, достаточно вспомнить о «Библейских сонатах» И. Кунау, предшественника И. С. Баха на посту кантора лейпцигской Thomaskirche. Но сонаты Баха отстоят, конечно, весьма далеко от наивной и прямолинейной программности Кунау. Баховские сонаты программной музыкой вообще не являются. Тем не менее, наименование соната есть здесь тайное указание на бытийствование неких идей, некоего, быть может даже, подобия сюжета, сокрываемых – и, фактически, воплощаемых – концертной ассоциацией композиции и музицирования.
Таким образом концертной форме ставится здесь задача и возможность называния и продолженной репрезентации некоих идей по канонам барочного умостроя (концертная форма как девиз и его многократное развёртывание). То, что Бах достигает в этих сонатах высочайшего совершенства в сочетании природы и свободы, пластики и многозначности – это ясно как будто бы само собой из самой материи этих творений, а между тем, сравнивая их с сонатами его современников, начинаешь лучше понимать, как сама материя предстаёт у Баха гештальтом, а последний материализуется в совершенстве формы. Одна только соната И. Л.Кребса (e-Moll), застрявшая, говоря метафорически, «между Кунау и Бахом», может послужить для такого сравнения красноречивым примером. Наконец, слово «соната» содержит – в обсуждаемом жанровом контексте и конгломерате – смысл и дидактический, именно: подношение сыну (В. Ф. Баху) таких сольных пьес (концерт – для многих, а соната – для одного), которые оказались бы полезными не только в музыкально-профессиональном отношении, но и в духовно-интеллектуальном становлении его личности (самой уже дилеммой в определении их жанровой сущности), что фактически и демонстрирует 14-ти нотный бас под «темой Св. Троицы» в двух первых тактах сонаты №1: Бог-Троица Отец и Сын и Дух Святой да благословит тебя, да будет тебе вождём и помощником в вере и учении, говорит тебе отец твой Бах – так начинаются сонаты!7
Философично в свой наглядности и удобозримости и само число 6 в общем построении баховского органно-сонатного суперцикла. Тональным планом (подробное его рассмотрение следует) Бах ставит в каждой тройке прежде всего число 2: I-II Es-c; IV-V e-C, т.е., говоря отвлечённо-философски – сущность и её другое. 2 – число многозначное и глубокое, но не законченное, требующее завершения, исчерпания. 3 – число полностью завершённое, совершенное. Таким образом и Ветхий Завет (в меру возможности) и Новый Завет (в полноте завершённости) свершаются в тройках. Шестёрка выступает, собственно, как 3+3, и затем уже, в итоговом осмыслении, как шестоднев, творчество человека в подражании творчеству Божьему – в традиционном понимании барочного умостроя.
Тональный план Шести
– есть именно то основоположение Кизера, которое ставит всю идею на прочный фундамент. Стройно-осмысленное совершенство этого построения, то, что Бах предопределяет его непосредственно к несению некоего тайного значения и более того – что уже в нём самом – в тональном плане сонат – заключена сокрытая загадка и разгадка всего Суперцикла – это и многое другое, о чём пойдёт речь, не вызывает у Кизера ни малейшего сомнения – особенно в свете новейших исследований П. Малкензи о Kunst der Fuge, направлении и деталях работы Баха над этим собранием в последние годы жизни великого композитора. Эти исследования, основанные на документах, непреложно свидетельствуют (на примере не одного только Kunst der Fuge), что вопросы симметрии и асимметрии, парности и концентричности, опорности и лёгкости и многие другие параметры композиции и циклизации имели для Баха далеко не только формальное значение, а ставились и разрешались им в применении к музыкальному гештальту, на уровне личностных, а значит, и неизбежно надтекстовых характеристик, подымающих музыку как бы в умственное небо, к богомыслию. Нет, Кизер вовсе не говорит о каком-то уходе музыки в теологические дебри, мы помним, что надтекст понимается писателем как некая область, сфера, чертог метаязыка в языке искусства, коему данный надтекст принадлежит. Музыке вовсе не нужно отказываться от своего природного языка, напротив, именно его разработанность, богатство и, так сказать, прозрачное совершенство и создают тот воздух надтекста, то, говоря образами Евангелия, горчичное дерево, в ветвях которого свободно гнездятся птицы небесные – все мы, дерзающие на бесконечное толкование и осмысление…
Тональный план Шести… В него не устаёшь вдумываться, им не перестаёшь восхищаться! Его безконечное глубокомыслие, стройно-возвышенная простота и завершённость для того, кто знает, что в нём заключено, есть уже вся музыка со всем её гештальтом и надтекстом, это всё, здесь нечего добавить, это – шестизначный Катехизис, в который вписано всё творение со всеми его тайнами…
Сонатная шестёрка начинается с тональности Es-Dur, значение которой непреложно и неоспоримо: Бог Единый в Трёх Лицах, Сотворивший мiр. О каждой сонате в отдельности будет сказано далее, но уже сейчас Кизер отмечает в гештальте первой удивительное соединение композиционной простоты и краткости с неисчерпаемостью смысла и надтекста. Эта особенная черта, это качество печатлеет подобие простоты и безконечности Божественной!8
Тональность второй сонаты c-Moll занимает самое низкое положение в Суперцикле среди тональностей сонат (учитывая её минорную терцию es). Тональность эта означает падение с высоты, грехопадение: терция и квинта до минорного трезвучия совпадают с ми-бемоль мажорным, но тоника проваливается из соль в до, что прообразует начало темы второй части сонаты №1 Es-Dur (о которой в своём месте). Тональность d-Moll третьей сонаты отодвигает свою тонику на тон выше от пропасти c-Moll, смещает своё трезвучие на один тон. При этом она оказывается самой чужой всем остальным тональностям сонат, так как в её трезвучии нет ни одного тона, общего другим основным тональностям Суперцикла. Итак, здесь предпринята попытка вызволения до минорной тональности из греховной пропасти, но эта мера приводит к явной искусственности: из минора всё равно не вышли, а попали в какой-то чуждый строй!
К этому промежуточному этапу приходит первая, Ветхозаветная тройка сонат. Всё-таки, в меру возможности, число три получает завершённое качество: грех удалось, правда, ценой потери первозданной цельности и общности, как-то, частично и на время, обезвредить!
Тональность третьей сонаты d-Moll потеряла два бемоля, тональность четвёртой сонаты e-Moll теряет и третий, а взамен приобретает диез – Крест. Эта соната, первая в Новозаветном подцикле, стоящая в центре всей шестёрки, и есть Крестовая, а потому имеет, подобно Кресту, четыре (а не три) части. Тональность e-Moll сдвигает строй ещё на один тон вверх от пропасти. При этом её тоника отстоит от до на большую терцию, в чём заключается предпосылка прихода тональности C-Dur, самой опять низкой, но мажорной! e-Moll имеет в своём трезвучии по названию все ноты трезвучия Es-Dur, хотя и не имеет бемолей, и так как эта тональность на полтона выше самого исходного Es-Dur (вот на какую высоту поставлен Крест!), то имеет с ним общую терцию соль. Это одно из самых важных обстоятельств тонального плана Шести надо очень хорошо понимать.
Во-первых, тональности с общей терцией, хотя и разноладовые и далёкие (по учению школьной гармонии), имеют, тем не менее, родство особое, и оно конкретно отражается в общности тематических гештальтов первой и четвёртой сонат (см. нотные примеры Приложения), о чём будет речь и далее.
Во-вторых, эта общая терция тональностей Es-Dur и e-Moll становится в последнем итоге тоникой последней сонаты G-Dur (№6), и эта общность ставит тон g во всей шестёрке в исключительное положение Короны всего Суперцикла! Это станет ясной, как солнце, истиной, когда обсудим оставшиеся две тональности: C-Dur сонаты №5, в которой самое опять низкое положение основного тона трезвучия сочетается с вновь обретённой начальной мажорностью, вернувшейся через три (!) минорные сонаты c-d и e-Moll. Эта тональность, такая по-видимому ясная и простая, является в шестёрке конгломерацией противоречивых тональных сил: до и ми минора, ми-бемоль мажора, являясь, в определённом смысле, тональностью радуги, надежды, путём от скорбного Креста к свету Воскресения. И потому надо представить себе, что до минорное падение преобразуется этой тональностью в Погружение. Куда? Зачем, с какой целью? Погрузиться, чтобы взмыть?..
И G-Dur сонаты №6, которая действительно взмывает из благодетельной бездны C-Dur в сияющее первозданное, нет, новое, небо, Небесный Иерусалим, где царит G – занимающее в изначальном Es-Dur почётное, центральное положение терции, а теперь ставшее тоникой – омегой, если альфой считать C. В ветхозаветном подцикле из греховного минорного c с большим трудом перебрались в минорное d. А теперь из мажорного C взмыли Фениксы-птицы вдруг к самому G, параллельному e, где вновь явившийся диез-Крест сияет победным стягом-хоругвью Сим победивших навсегда!
Ещё немного воспоминаний и философии
Каким человеком был Оливер Кин?
Непростым. Дерзновенным. Непредсказуемым.
Один старый органный мастер любил ходить на его концерты и всегда спрашивал: «А как ты будешь играть? Будешь «чудить»? – тогда приду, а если будешь как положено, как все, тогда не приду». Но Кизер не помнит такого случая, чтобы Оливер «не чудил». Он не очень заботился об «аутентизме», изменял иногда расположение партий в партитуре, а между тем это звучало удивительно исторично и только как-то настолько остро и свежо, так било жизнью, что за это готов был отдать любую «историчность». Кизер никогда не забудет в последний раз слышанный от Оливера гимн O Lux beata Trinitas Михаэля Преториуса! Что это было! Бедный Робби потом ломал себе голову за органом, как достичь подобного «эффекта»: играл одной рукой на двух клавиатурах, пробовал одну за другой регистровки… Нет, дорогу осилит идущий, но дорогу свою, дорогу Робби осилит Робби…
Кин, насколько известно Кизеру, не был литератором, он был музыкант. А вот в Кизере органист заслонил подпольного литератора. И даже когда Кизер «чудил» за органом, это было «чудение» некоего литературного свойства, «органный театр» или что-то такое… И в конце концов этот загнанный вглубь виндлады писатель вылез-таки наружу.
Вот где «чудение» Кизера и его инструмент: слова и буквы, предложения и абзацы, строчки и знаки препинания.
И раз уж это «чудение» обращено к памяти Оливера, то пусть же будет оно в своём роде столь же свободным, непредсказуемым и дерзновенным, каким был…
О всегдашне-повсеместное, мемориальное это словцо – «был, был, был» – гвоздями во гроб этого мiра – где всё «было» и ничего нет…
***
В одной из уже последних бесед с Кизером Кин выразил приблизительно такую мысль: «Да, музыка имеет язык, но это язык – не словесно-понятийный, а мелодический». А Кизер совсем уже поэтически вторит ему: «Надтекст есть парение музыки в умственном небе».
В чём же их согласие? Ведь где ум, там и понятие? – восклицает средний завсегдатай философского кафе.
Небо есть достояние ума, данного человеку Богом. Там нет понятий, там сверхпонятия, там опять музыка, метамузыка Ангелов. Надтекст есть чертог музыкального гештальта, в котором музыкальная личность (произведение) общается с этими сверхпонятиями, с метамузыкой небес. В этом общении и нет ничего словесно-понятийного, но природа музыкального гештальта, его прозрачность и глубина влекут и несут нас ввысь, откуда пришла к нам Музыка. Земная музыка есть преломление и отражение музыки Небес, она и отдаёт Небесной музыке самое высокое, природное и исконное, что посеяно и взращено в ней Той музыкой, которой она обязана собой, с которой свободно и природно сливается воедино в Умственном небе. В этом высота, трансцендентно-космическая немерянная сила старой музыки, сила Духа, освящающая её. Старые композиторы – имели же они силу так сочинять! Сила эта – в связи с Богом, в Божьем благословении. Эту силу не исследуешь, не изучишь, не измеришь, она от Бога. Молись – и она Божьей волей дастся тебе, но ты уже не захочешь её измерять, сосчитывать. Мы утратили эту силу, потому что утратили молитву, связь с Богом – вот весь и секрет. Кто-то, может быть, не утратил, пусть молится – ничего не «было», всё есть, потому что когда всё и всегда возможно Богу, то всегда возможно и человеку.
«Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие (говорю как детям) распространитесь и вы» (II Кор. 6, 11-13).
Это переживание надсловесности надтекста (он и есть надтекст!) есть, наверное, высший дар Бога человеку в познании музыки, сходящей с Небес, Которая есть Матерь всякой музыке здесь на земле. Его (это переживание) не объяснишь, ему не научишь, оно есть предел всякого музыкального знания. Но уподобление этого переживания неизбежно должно войти в соприкосновение со словесными символами, понятиями, текстами. Последние, однако, не есть самоцель и окончательное постижение, но только подведение, направление к таковым. Конечно, надтекст, как чертог духовной целости музыкального гештальта, обращается к источнику всей духовности на этой земле – к Священному Писанию, Евангелию, но ведь и само истинное понимание этих священных текстов заключается вовсе не в словах и понятиях, не в интеллектуальном «содержании», а в самой жизни по этим заповедям; а жизнь – она ведь в сущности тоже надсловесна подобно музыке – и только пользуется словом как, в своём роде, наводящим инструментом. Кизер говорит так: надтекст неотделим от музыкальной личности в целом, от гештальта, в котором мы её (эту музыкальную личность) познаём, следовательно, надтекст есть, попросту говоря, иначе выраженный гештальт – и всё в целом возвращается к музыке, к Музыке, насколько каждый из нас смиренных может её или Её познать, насколько в равную меру распространились и мы.
И вот, Идея
Но прежде чем вплотную приступить к этой большой и важной главе, Робби Кизер должен уведомить читателя об одном весьма существенном обстоятельстве, касающемся её автора (авторов?!). Впрочем, об этом обстоятельстве внимательный читатель уже догадывается, по крайней мере, оно не станет для него такой уж большой новостью. Дело в том, что Робби и Оливер, будучи людьми разными – по характеру и воспитанию, по возрасту и образованию – разным образом понимали и представленную к обсуждению тему – о надтексте органных сонат Баха. Это разное понимание росло с годами, по мере вхождения в реалии, далеко не лежащие на поверхности. Оливер представлял себе сонаты как некоторые библейские картины или сюжеты: надтекст (термин Кизера) имел в его понимании наивно-объективную окраску шести выбранных (для юного Вильгельма Фридемана) библейских и евангельских моментов – избранных так, чтобы они составили вместе как бы конспект, «выжимку» всей Священной истории, предназначенную к назиданию упомянутого молодого джентльмена. Основание и убедительная сила этих представлений Оливера состояли и состоят в интуитивном чертоге музыкального гештальта, его меткие суждения и отгадки покоряли сразу и навсегда. Когда Робби, ранее относившийся к органным сонатам как к «чистой музыке», услышал от Оливера, что начало второй сонаты «изображает» изгнание Адама и Евы из рая, и как Ангел восклицает своё Weg! (вон) и потрясает мечом (пример 4 а), он принял это сразу же, и его осенило, что и другие сонаты заключают в себе, наверное, подобные же сюжетные сцены. Робби начал допытываться об этом у Оливера, и тот рассказал ему ещё кое о чём, например, что тема третьей части шестой сонаты запечатлевает евангельский момент как Христос учит Апостолов отряхнуть от своей обуви прилипший прах той земли, где не примут их проповедь Евангелия (срв. Лк, 9, 5):
Пример 9. Соната №6, III ч.
Allegro

(Alto)
И эта интуиция также сразу убедила Робби, не обладающего столь ярким музыкальным воображением, в гештальтной точности такого именно ви́дения. Оливер, впрочем, сказал, что он сам не продумал ещё все сонаты до конца, но у Робби-то, не столь интуитивного, но зато более основательного, стала складываться понемногу своя система; кое-что из гештальта он надумал сам, но главное – у него мало-помалу выстраивалась в голове – притом помимо особых и усилий – картина и идея многообразных и многосторонних взаимодействий между разными сонатами – связей прежде всего тональных (см.: Тональный план Шести), затем парности, симметрии, концентричности, общности мотивно-тематической и т.д… то есть, он начал видеть в сонатах то, что видят обычно в тематических собраниях (таких как, например, Kunst der Fuge). И он стал понимать, что интуиции Оливера не есть единичные феномены и только лишь отдельные картины, а это – звенья одной цепи, охватывающей всю сонатную Шестёрку, весь Опус (теперь так!) в его Целом. Вот откуда взялась у Кизера идея Катехизиса.
***
Сила Оливера в его поистине стихийной гештальтной музыкальности. Его высказывания о музыке были продолжением его игры, то и другое неразделимы… Однажды в дружеском собрании после концерта кто-то, поднимая бокал, произнёс: «Ты – органный Моцарт!..»
Как передать дух его музыкальных интуиций?
Теперь он живёт в свидетельствах о нём, но не в них только: мысль порождает мысль, cogito ergo sum, давший жизнь не умрёт, но продолжит жить в ней…
***
Необходимо, впрочем, внести одну поправку. Если понимать термин Катехизис в применении к сонатам буквально, то он вызовет справедливые и резкие возражения. Катехизис есть, кратко (и упрощённо) выражаясь, Конституция вероучения. Такого в надтексте сонат, конечно же, нет. Но если под Катехизисом понимать также и наставление в вере, которое обращается, для пояснений и примеров, и к тем или иным эпизодам и изречениям Священного Писания (а это в Катехизисе тоже присутствует), то такая характеристика, несомненно, ближе к надтексту Шести – наставление в вере через картины и темы Священного Писания. Итак, не просто картины, как (главным образом) видит Кин, а наставление в вере через картины, «Катехизис» (в кавычках), как это понимает Кизер.
Систематическое наставление в вере! – уточняет и подчёркивает Кизер. Вот и пришли опять почти к тому, с чего начали – к «Катехизису». Снова объяснять? Но если читатель понял, что надтекст – это занятие музыки, писателя, читателя, «не своим делом» – Кизер будет уже выражаться как ему удобно, не заботясь излишне о громоздком педантизме.
Ибо когда Робби нашёл негде следующую чёрным по белому прописанную дефиницию: «программная музыка есть музыка с узаконенным надтекстом», у него волосы встали дыбом и он стал седым, как теперь. Ему объяснили его самого. Надтекст не может быть узаконен, иначе это не надтекст, он вне закона, «за станом» (срв. Евр. 13, 13). Следовательно, в программной музыке нет надтекста, его прихлопнули, «узаконили» программой (или снова его изобретать? сверх программы?)!
Слава Богу, шесть сонат не есть такая музыка – в ней воздух Неба, в ней – Надтекст!
– * -
Теперь, когда о надтексте сказано вполне достаточно, чтобы никому не пришло в голову спутывать его с программой, с чем-либо навязанным музыке откуда-то извне, с содержанием, оболочкой колбасного батона и т.п. – Кизер представит таблицу толкования общего надтекста каждой сонаты в согласии или расхождении с О. Кином.



