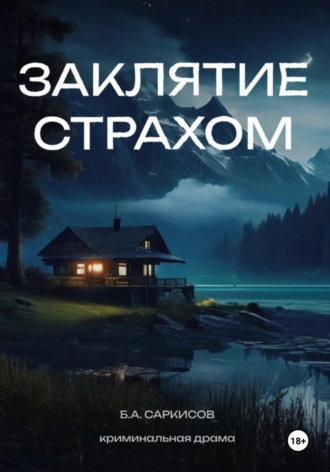
Борис Айроевич Саркисов
Заклятие страхом
3
В пятницу, когда рабочий день клонился к закату, начальник районного следственного управления Семен Русланович Назаренко обнаружил на своем письменном столе среди прочих бумаг нераспечатанное письмо. Вскрыв его и внимательно изучив, он по селектору вызвал к себе секретаршу.
–Катерина, когда поступило это письмо? – он, словно веером, помахал конвертом, когда в дверях возникла приятной наружности девушка с большими серыми глазами.
– Сегодня утром.
–Так-так, значит свежее. – Поразмыслив, шеф поинтересовался:
– Александр
Захарович еще у себя?
– Кажется собирается домой.
– Зови его ко мне.
Капитан Суздальцев не заставил себя долго ждать. Несмотря на седую шевелюру и свои почтенные года, а ему как-никак перевалило за шестьдесят, он был сложен как тяжелоатлет. Темноголубые глаза казались ленивыми и мягкими. В отличие от многих сыщиков, чопорных и хмурых, лицо его всегда лучилось приветливой улыбкой. Сослуживцы ценили и почитали его, а преступники побаивались. Он обладал еще не менее важным преимуществом перед своими коллегами, а именно способностью ясно излагать свои мысли и располагать факты и версии в строгой логической последовательности.
–Присаживайся, Захарыч, – начальник указал на стул рядом с журнальным столиком. Сам же достал из сейфа непочатую бутылку коньяка, рюмочки, несколько бутербродов с ветчиной и, выложив все это на стол, сел напротив. – Неделька была тяжелая, надо бы пар выпустить. Как ты на это смотришь?
– Как на жизненную потребность, – улыбнулся Александр Захарович и опустился на стул.
Назаренко уважал Суздальцева за высокий профессионализм, смекалку, чутье сыщика отменной закваски: от него ничего не могло укрыться – ни заговоры, ни убийцы, ни воры. Впрочем, их отношения складывались не так уж безоблачно. Они вместе начинали службу, вместе расследовали несколько громких преступлений, но, будучи более гибким, чем его напарник, Назаренко значительно быстрее взбирался по служебной лесенке.
Пропустив по рюмочке, Семен Русланович поделился своими соображениями.
– Как ты смотришь, Захарыч, если я возьму и предложу тебе на месяц махнуть в Петровск? Отдохнешь, брата навестишь, вдоволь порыбачишь на Меренке, ну и заодно отчет привезешь о криминогенной обстановке в поселке. Там почти год возглавляет подведомственный нам участок Иван Кузьмич Липатов. Он сменил на этой должности Оскара Петровича Филимонова, которого погнали с работы за превышение своих полномочий. Надо бы изнутри разведать тамошние дела и дать им объективную оценку. Что- то мне не нравятся ежеквартальные отчеты оттуда -уж больно гладкие. – Назаренко бросил на своего коллегу вопросительный взгляд: – Как тебе мое предложение?
– Заманчивое, – Суздальцев не скрывал своего согласия. – Давненько я не бывал в Петровске, а ведь там прошли мои детство и юность, там я постигал смысл жизни, там же начинал свою работу следователя и распутывал всякие житейские хитросплетения.
– Вот и хорошо. Закругляйся с незавершенными делами или передай их кому-нибудь, бери одну из патрульных машин и выезжай прямо на следующей неделе. – Вспомнив о письме, добавил: – Кстати, о твоих старых делах. Получено официальное письмо из зоны – насчет Эдварда Ремовича Веригина. Кажется, ты вел это дело?
– Было такое, – кивнул Александр Захарович. – С тех пор минуло целых двадцать лет. А что?
– Отсидел свое, возвращается. Из письма следует, что последние три года отбывал он в клинике для душевнобольных, где проходил принудительное лечение. Клиника эта, сам знаешь, ничем не лучше колонии – тоже с высоким забором и решетками на окнах.
Суздальцев нахмурился.
– Какого характера психическое расстройство?
– У него иллюзорно-искаженная реакция на события и ярко выраженная мания преследования. Так сказано в письме. Видения приходят к нему не только во сне, но и наяву. Они его мучают особенно с наступлением темноты и могут спровоцировать паническое настроение, а оно в свою очередь способно привести к безумию и одержимости. Но никаких симптомов шизофрении. Рассуждает здраво и умно. Так вот… Начальник колонии убедительно просит нас принять деятельное участие в его судьбе, по возможности трудоустроить, словом, взять опеку над ним, чтобы парень не затерялся в этой жизни. – Назаренко взял со стола конверт и протянул его Суз- дальцеву. – Возьми, может пригодиться. В колонии, между прочим, Эдвард в совершенстве овладел специальностью телевизионного техника. А такие мастера без работы не сидят. Ты, Захарыч, хорошо помнишь это дело?
– Даже очень. Тогда я в Петровске работал в отделе по расследованию убийств и возглавлял это дело.
– Это правда, что Эдвард Веригин сидел за двойное убийство?
Суздальцев снова нахмурился, его брови невольно сдвинулись в густую линию.
– Это дело, Семен, долго не давало мне покоя. Я по сей день продолжаю думать, что парень взял на себя чужую вину. И тому есть логическое объяснение.
Вот как! Почему?
– Думаю, от безысходности своего положения он сам отправил себя на нары.
– Можно подробнее? – подогретый любопытством и выпитым, шеф снова разлил в стопки коньяк и, когда они залпом выпили, коротко сказал: – Слушаю.
Тогда у меня так и чесались руки засадить… Нет, не Эдварда, а его отца Рема Павловича, для которого, как я позднее понял, творить зло – притягательное и исключительно выгодное занятие. Именно таких ублюдков, как он, следует гноить в тюрягах, чтобы они не калечили души других. Парнишка Эд фактически рос на моих глазах – я тогда жил напротив их дома, рядом с моей бывшей учительницей математики Стефанидой Евсеевной Садковой. Как ей, так и мне была известна вся подноготная семьи Веригиных. Ты не поверишь, Семен, но этот душегуб Рем подрабатывал себе на жизнь… Как бы это тебе сказать… сутенерствовал… Он стал сутенером собственной жены Глории. Рем спаивал ее, вводил в руку наркотики и подкладывал за солидные бабки под заезжих мужиков. Надоумил его на это молодой и нахрапистый парнишка по имени Феликс. Когда Рем решил избавиться от Глории, тот ему посоветовал: “Зачем гнать от себя бабу. Она достаточно смазлива, еще в соках, а значит может приносить неплохие барыши. И это даже очень хорошо, что ты постоянно держишь ее под мухой…” Идея пришлась по душе Рему, и он зачастил на железнодорожную станцию, откуда приводил мужиков, бесцеремонно подкладывал под них свою Глорию… Мерзопакостный тип.
– А Эдвард? – живо поинтересовался Назаренко. – А Эдвард где был в это время, и как он воспринимал эту кошмарную оргию?
– Думаю, он прекрасно знал о проделках отца. Бедный Эдвард! Он был зачат в пылу угарного опьянения своих родителей и, еще находясь в утробе материнской, подвергался внешнему насилию: даже беременную Глорию заставлял Рем пьянствовать, колоться, склонял ее к самым тесным интимным связям с чужими мужиками. Это продолжалось и после рождения Эдварда. В результате – биологический брак. Парнишка был внешне уродлив: большая и круглая голова держалась на худых, почти высохших плечах, за что кто-то из отцовского окружения окрестил его “Головастиком”. Он часто болел, его всегда сторонились сверстники, поэтому рос молчаливым, замкнутым, умственно отсталым – думаю, не умел ни читать, ни писать. Чтобы мальчишка не попадался на глаза заезжих мужиков, его на ночь выталкивали из дома, как выгоняют чужого кота, и тот скитался и ночевал где придется, чаще всего в лесу, на Волчьих холмах, где Эдвард соорудил себе что-то вроде чума. Лучшего места для уединения от семейных дрязг он придумать не мог. Родителей вовсе не волновало, где слоняется их сын, чем питается. И тот все более замыкался в себе, убегал в свое лесное жилище, которое, фактически, служило ему домом.
Слушая рассказ Суздальцева, Назаренко время от времени перебивал его вопросами, цокал языком и теребил в руке какую- то безделушку в знак озабоченности.
– Страшную картину нарисовал ты, Захарыч. Неужели для отца так безразлична была жизнь сына?
– Вот почему я и называю его ублюдком и душегубом. Он бы и глазом не моргнул, если бы Эдвард помер с голода, как крыса в мышеловке. А между прочим, строил из себя праведника, в местную церковь похаживал, причащался, стоял с понурой головой у алтаря, ставил свечку… Эх, Семен, корю себя за то, что молча взирал на все это. Тогда я только приступил к работе следователя, была масса своих проблем… Так и рос Эдвард, часто видел, как мать переходит из рук одного мужчины к другому, из одой кровати в другую. И если в эти минуты он попадался на глаза отцу, тот хватал мальчишку за шкирку и, матюкаясь, вышвыривал из дома. Когда парню стукнуло шестнадцать, он иначе стал осмысливать происходящее. Конечно, он по-своему жалел мать, понимал, что она стала жертвой отцовского коварства, его алчности, что это Рем, одержимый лишь одним желанием – исполнять собственные прихоти, разрушил ее жизнь алкоголем и наркотиками. В нем зрела злость, ярость, но он ничего не мог изменить, так как боялся отца, не смел ему ни в чем перечить. В то же время он видел, что иной жизнью живут его сверстники, что они ухожены, обласканы заботой, одеты, обуты, а он постоянно ходил в залатанных штанах и донашивал потрепанные отцовские башмаки.
Суздальцев криво усмехнулся и умолк.
– Что было дальше? – начальник с нескрываемой заинтересованностью посмотрел на собеседника.
– В один прекрасный день Рем Павлович появился у меня на участке и сообщил, что его сын застукал свою мать с любовником и в порыве ярости зарезал обоих. Так и сказал – в порыве ярости. И потребовал засадить его как социально опасного преступника. Интуиция подсказывала мне, что отец валит с больной головы на здоровую. Я, конечно, арестовал Эдварда: на кинжале, которым зарезаны жертвы, были его отпечатки пальцев. И все-таки сомнения не покидали меня – ведь кинжал могли подбросить. Но странное дело: Эдвард на допросе даже не пытался защищаться. Пришлось закрыть дело – шестнадцатилетний парень был осужден на двадцать лет и этапирован в колонию строгого режима.
Семен Русланович постучал пальцем по суконной обивке журнального столика, потом снова наполнил стопки.
– Давай махнем, – предложил он, и они мигом проглотили искристо-коричневый напиток. – Не понимаю только одного: почему тебя по прошествии двадцати лет мучают угрызения совести?
– Просто я сейчас иначе смотрю на это дело, – заметил Суздальцев, вздыхая. – Если даже Эдвард действительно в порыве глубокой депрессии и ярости решился на убийство, я бы не судил таких, как он. В нем до поры до времени зрел вулкан гнева, и по законам природы он когда-то должен был проявить свой разрушительный нрав. Хотя, конечно, после сиюминутного неистовства больно приземляться.
– Ты, Захарыч, действовал так, как предписано уголовным кодексом, и упрекать себя не стоит.
– Если бы моя воля, – убежденно изрек Суздальцев, – я бы в наш уголовный кодекс внес пункт, оправдывающий таких, как Эдвард. Его сызмальства морально изничтожал отец. Он лишал его элементарного, превратил его в мишень для издевательства. За это, к великому сожалению, у нас никто не отвечает – ни общество, ни власть, ни свод уголовных законов. Ведь, по сути, подобное преступление – протест против среды обитания, против нашего правосудия, против тех, кто уродует жизнь несовершеннолетних. Взяв на себя роль мстителя, он в одиночку вступил в борьбу с теми, кто не мог его защитить. И тогда… Тогда даже набожный человек начинает отвергать библейские истины.
– Надеюсь, ты прав, – кивнул Назаренко, явно разделяя суждения своего коллеги. – К сожалению, наш мир с точки зрения закона и морали несовершенен, справедливости в нем еще маловато. Думаю, тебе стоит встретиться с Эдвардом и, если это будет необходимо, повлиять на его дальнейшую судьбу.
– Только после подробного, спокойного разговора с ним я буду способен понять, смогу ли чем-либо помочь несчастному.
4
Было около пяти вечера. Над поселком все еще висело липкое, плотное марево, и солнце продолжало жарить. Эдвард остановился у кованых ворот, протер ладонью вспотевшее лицо, прильнул к зеленой изгороди и, сунув два пальца в рот, свистнул. Потом – еще, еще, еще… Дверь в доме наконец открылась, оттуда высунулась белокурая голова Дениса.
– Эдвард! – увидев за изгородью своего спасителя, мальчик в приветственном жесте вскинул руку и стремглав бросился к нему.
– Пришел, как обещал, – Эдвард слегка прижал к себе Дениса.
– А я думал, что больше не увижу тебя. Мол, сошлись, разговорились и разошлись! – в порыве восторга воскликнул парнишка. – Если бы только знал! Все это время я только и делал, что думал о нашей будущей хижине. Ты еще не передумал?
– Слов на ветер я не бросаю.
– Значит, наш уговор в силе?
– Конечно. Ты сейчас чем думаешь заняться?
– Надо зайти к маме на работу. Она только что звонила, сказала, что забыла дома ключи от своего кабинета. Составишь мне компанию? – Видя, что Эдвард замялся, пояснил: – Это недалеко, на набережной, там мама в продовольственном магазине заведует отделом.
Эдвард согласно кивнул, и они медленно побрели к набережной. Денис всю дорогу только и говорил о хижине, о том, как им вдвоем будет раздольно в лесу, имея там надежное убежище.
Покупателей в этот час пик в магазине было много. Среди пестрой публики Денис увидел свою маму: у кассовых автоматов она о чем-то бойко беседовала с завмагом.
– Смотри, вон моя мама Милена, – он дернул друга за рукав. – Милена Кимовна. Рядом с ней завмаг Игорь Николаевич. Я только передам ключи и вернусь.
Стоя у входа в магазин, Эдвард оглядывал Милену – красивую женщину бальзаковского возраста: стройную, белокурую, с изящной прямой осанкой, пышной грудью и высокопоставленной талией. Она была в темно-синих брючках, лиловой хлопчатобумажной кофте, глаза прикрывали дымчатые очки.
– С кем ты притащился ко мне? – строго спросила мама, когда Денис приблизился к ней и передал ключи. Она с подчеркнутым пренебрежением посмотрела на стоящего в дверях неказистого мужчину с бомжовой внешностью. – Позор какой-то! Кто он?
– Мой новый друг, – со сдержанным достоинством ответил сын.
Мать выдержала немую паузу, выжидательно глядя на Дениса, потом всплеснула руками:
– Друг? Только этого мне не хватало. – Она повернулась лицом к завмагу. – Как вам это нравится, Игорь Николаевич?
– Сказать откровенно?
– Конечно.
– Это, Милена Кимовна, тот самый мерзкий тип, о котором сейчас только и говорят в поселке. Не позволяйте сыну даже приближаться к нему.
– Вы пугаете меня, Игорь Николаевич, – она не скрывала своего волнения. – Вы что-то знаете об этом странном человеке?
– Люди говорят, что он отсидел в колонии двадцать лет за двойное убийство, кажется, помешался там и досиживал срок в психушке. – Игорь Николаевич перевел взгляд на Дениса и покачал головой: – Ты больше никого не мог выбрать себе в друзья? – И снова обратился к Милене: – Вам не кажется странным, что одинокий мужчина с бомжовой наружностью, только что вышедший из тюрьмы, заинтересовался вашим сыном?
Денис внимательно следил за тем, как отреагирует на эти слова мама и, встретив на себе все тот же суровый взгляд, взял ее за локоть и отвел в сторону. Некоторое время они о чем-то бойко говорили и спорили. И тут Денис, обернувшись, обнаружил, что
Эдвард исчез.
Мальчишка пулей вылетел из магазина, догнал Эдварда на подступе к набережной и, видя, что тот совсем сник духом, стал умолять его не принимать всерьез враждебные взгляды в свой адрес. При этом Денис не скрывал, что успел проникнуться к нему уважением.
Вскоре к ним присоединилась Милена. В руках она держала авоську с продуктами.
– Мне сын все рассказал, поэтому я вас так просто не отпущу, – слова ее прозвучали то ли как просьба, то ли как приказ. – Пойдемте к нам, я вас хорошенько покормлю. Здесь у меня, – она качнула в руке авоську, – свежий говяжий фарш и замесенное тесто. Получатся превосходные пироги с мясом и зеленью.
– Давай, Эд, не раздумывай, – Денис схватил его за руку, видя, что тот колеблется. – Пошли к нам.
Он собрался возразить, но Милена решительно подняла руку:
– Нет, нет, решено!
Эдвард вспомнил, что почти двое суток толком ничего не ел, оттого чувствовал спазм в желудке, и напоминание о пирогах прибавило ему уверенности.
Они двинулись вдоль набережной по покрытой гравием аллее. Легкий бриз шевелил ветви огромных олеандров, высаженных по обеим сторонам пешеходной дорожки. Их мощные розовые и белые самоцветы благоухали утонченным ароматом. Сквозь смог смутной линией вырисовывался противоположный берег Мерен- ки. Раньше, насколько помнит Эдвард, здесь был дикий пляж, теперь же на прибрежье выросла тополиная аллея – кроны деревьев, сплетаясь, образовывали тенистую арку.
Они шли рядом, и время от времени Эдвард ловил на себе беглый испытывающий взгляд Милены. Будто спохватившись, она изобразила приятную улыбку и первой прервала молчание.
– Считаю себя вашей должницей, – сказала она со значением, глядя на идущих чуть впереди плечом к плечу Дениса и Эдварда. – Если бы не вы, то я сейчас проливала бы горькие слезы. Мой сын так и не научился плавать. И вообще эта коварная Меренка… Я никогда не забуду того, что вы сделали.
Эдвард пожал плечами.
– На моем месте так поступил бы каждый.
– Не знаю, не знаю… Прыгнуть с высокого моста, рискуя разбиться… Вы подарили Денису жизнь… Скажите, Эдвард, вы родом из нашего поселка?
– Родился и вырос здесь, – вполголоса ответил он.
– Значит, у вас здесь должны быть родные?
– Только отец. Но он не пожелал принять меня в свой дом.
Замедлив шаг, они остановились. Она сняла дымчатые очки, и Эдвард увидел, как в ее ярких васильковых глазах, точь-в-точь как у Дениса, отразилось негодование.
– Как так! – она смотрела на него с внезапно вспыхнувшим интересом, смешанным с осторожностью. – Родной отец отвергает собственного сына! Кто он?
– Рем Павлович Веригин.
– Ваш отец? – она, удивившись, нахмурила брови. – Иногда заходит в наш магазин. Очень скрытный, почти недоступный. Подумать только – не принять своего сына! И как вы собираетесь жить дальше?
Эдвард снова пожал плечами, но промолчал.
– Я вас прекрасно понимаю. Положение ваше незавидное, но не безнадежное… А мы вот с сыном живем одни с тех пор, как мой муж утонул в Меренке.
– Не утонул, – набычившись, возразил Денис. – Все это дядя Феликс – он утопил моего папу.
Милена всплеснула руками.
– Сколько можно без конца твердить одно и то же! – в сердцах вырвалось у нее. И глянула на Эдварда. – Это у него от неуемной фантазии. – И пояснила: – Мой Глеб со своим другом Феликсом имели автобус и занимались частным извозом. Дружили, не раз выходили на нашей лодке ловить рыбу. В тот роковой день был сильный паводок и течением перевернуло лодку. Глеб утонул, а Феликсу удалось выбраться на берег. С тех пор прошло около года, и все это время Денис неустанно твердит, что гибель Глеба – дело рук его друга. Но это не так. Даже из следственных протоколов следует, что это несчастный случай. После этой нелепой трагедии Феликс стал часто навещать нас, и каждый его визит приводит моего сына в смятение.
– Это он… Это он утопил моего папу, – продолжал стоять на своем Денис, и Эдвард заметил, что глаза мальчика наполнились слезами. – Это он… Этот негодяй!
Они двинулись дальше по набережной, каждый поглощенный своими мыслями.
Дениса явно томила обида и ревность.
После гибели отца его мать ни с кем не встречалась, наслаждаясь отсутствием особых житейских сложностей. Но спустя год в жизнь семьи ворвался Феликс. Под предлогом опекунства над сыном своего закадычного друга он зачастил в дом Ганеевых, и его отношения с Миленой вскоре стали более чем доверительными: в ней заиграли гормоны и возбудили желание. Денис воспринял это как предательство перед памятью отца, которого безумно любил, и как мог отстаивал свою честь и честь своей семьи.
Наконец они остановились возле низкой зеленой ограды, за которой просматривался белокаменный дом.
Милена отворила дверцу в воротах и, пропустив вперед Эдварда и Дениса, повела их в дом.
Она усадила гостя в кресло, а сама заспешила в спальню. Она торопливо выскользнула из кофты, облачилась в легкий домашний светло-бордовый халат, и когда вновь появилась в гостиной, выглядела все также привлекательно.
– Я сейчас вас покормлю, – сказала она с улыбкой и исчезла в кухне.
Уютом и теплом повеяла на Эдварда домашняя обстановка, однако в сознании неумолимо пульсировала угрюмая мысль: почему столь быстро разнеслась по поселку весть о возвращении после двадцатилетнего заключения опасного преступника? Он, как никто другой, прекрасно знал, что дурная весть, если даже она ложная, способна будоражить умы и сердца людей. Кто за этим стоит? Отец?
А почему бы и нет? Он мог стать распространителем клеветы, так как в его интересах изжить сына из поселка, чтобы ничто и никогда не осложняло его жизнь.
Наконец Милена вернулась с подносом и выставила на стол пироги и кофе. Они втроем молча принялись за еду. Воцарившуюся тишину первым нарушил Эдвард:
– Странно… Вы, Милена Кимовна, с такой легкостью уделяете внимание мне, бывшему зеку?
– Я не желаю вдаваться в подробности, – она с сочувствием посмотрела на него. – Прошлое осталось в прошлом, вы начинаете новую жизнь, и я искренне желаю, чтобы вы обрели счастье. Знаю, что без помощи ближних этого добиться будет непросто, но я чувствую, что у вас доброе сердце. Иначе бы мой Денис не притянулся к человеку, вернувшемуся из тюрьмы.
Легкая улыбка осветила лицо гостя.
– Спасибо за добрые слова, мне никогда не приходилось их слышать. – Допив кофе, он поставил чашку на стол, поднялся, искренне поблагодарил хозяйку за угощение. – Ну, мне пора.
– Куда вы? – Милена схватила его за локоть. – Вы же сказали, что отец вас не принял, а значит вам некуда спешить. Неужели думаете, что я могу быть такой бессердечной к человеку, который спас моего сына?
– Правильно, мама, не отпускай его, – с мольбой и надеждой в голосе защебетал Денис. – У нас вполне достаточно места на троих.
Милена на какое-то время впала в раздумье и наконец на свой страх и риск сказала:
– Сделаем вот что… – Ее голос на последнем слове замер в странном недоумении. Почти с минуту длилось молчание, чувствовалось, что в ней зреет решение. – Следуйте за мной.
Милена вышла из дома и повела Эдварда через двор к приземистому строению с зарешеченными окнами. За ними последовал Денис. Она вытащила из халата ключ, открыла входную дверь и отступила в сторону.
– Входите.
Они очутились в темном узком коридоре, проходившим через центр сарая, и в нос сразу ударил запах нежилого помещения – пыльного и сырого. На стенах, покрытых пятнами плесени, висела всякая всячина, маленькие окна забиты тряпьем, под ногами путались кучи мусора, отчего здесь и держался затхлый запах.
– Пусть хлам вас не смущает, – она откинула ногой кучу барахла. – Сарай есть сарай. Сейчас я вам покажу небольшую комнатку, где вы могли бы временно жить, пока не подвернется что- то получше.
Против воли у Эдварда вырвался вздох, на какое-то время его глаза заволокло туманом. Он опять увидел узкие решетчатые окна за серыми стенами колонии, узкие коридоры, по которым его гнали надсмотрщики, с дрожью вспомнил тюремную камеру, где его частенько преследовали приступы клаустрофобии – наглухо замкнутое пространство удручающе действовало на его психику, и он впадал в галлюцинацию.
Милена открыла дверь в комнату и посторонилась, давая Эдварду право первым войти в нее. В лицо снова повеяло сырым воздухом, который, казалось, вгрызался в кости. Все здесь было покрыто толстым слоем пыли: и низкая софа, и письменный стол, и прикроватная тумбочка, и стулья с высокими обшарпанными спинками. Со всем этим соседствовало огромное старинное зеркало в деревянной раме, припечатанное к стене. Осмотревшись, Эдвард подошел к решетчатому окну, откуда виднелся двор.
Милена приблизилась, провела указательным пальцем по решетке.
– Если согласны, то вам придется прибраться и устраиваться. Правда, комната сырая, но сырость можно прогнать. Мой Глеб когда-то выложил здесь камин и всегда имел в запасе дрова – их найдете в подсобке. Все, что здесь видите, им сколочено и обставлено. Когда родился Денис, мой муж все чаще стал здесь уединяться – мальчик был слишком криклив, вот и забирался он сюда на ночевку. – Она умолкла и вопросительно глянула на гостя. – Ну как, вас устроит эта комната?
– Выбирать не приходится, – Эдвард старался не выдавать своего замешательства. Он краешком глаз посмотрел на Дениса и, встретив в его взгляде сочувствие и одобрение, кивнул: – Нормальная комната.
– Тогда устраивайтесь, – предложила Милена и удалилась, оставив Эдварда наедине с Денисом.
– Не забывай о нашем тайном уговоре, – напомнил мальчик.
– Ты насчет хижины?
– Да.
Эдвард опустился на софу. Пружины под ним недовольно взвизгнули, подняв в воздух маленькое облачко пыли.
– Приступим через пару дней. За это время я наведу порядок в сарае – уж больно он запущен. И комнату приберу – ведь жить в ней.
– А когда поставим хижину, переселимся туда? – спросил мальчик, не в силах сдержать любопытство.
– А что скажет мама?
– Я предупрежу ее.
Не предупредишь, а возьмешь разрешение.
Как только Эдвард остался один, он зажег сигарету и, покуривая, принялся ходить взад и вперед по скрипящей дряхлыми половицами комнатке, пытаясь разобраться в своих первых впечатлениях от встречи с поселком и семьей Ганеевых. В мозгу по- прежнему царил хаос, и единственным рельефным образом возникал и маячил в сознании белокурый Денис, чье внезапное вторжение в его жизнь удивляло и радовало.
И все-таки будущее уже смотрелось не так мрачно, как день назад.





