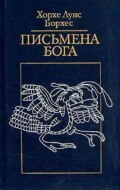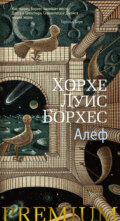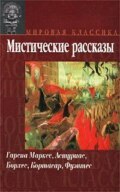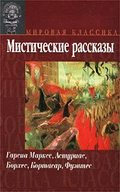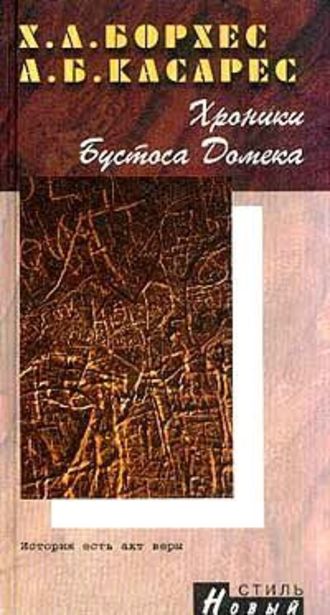
Хорхе Луис Борхес
Хроники Бустоса Домека
Новый вид искусства
Трудно поверить, но словосочетание «функциональная архитектура», которое профессионал не произнесет без снисходительной усмешки, все еще продолжает очаровывать умы широкой публики. Надеясь прояснить эту проблему, мы попытаемся беглыми штрихами очертить панораму модных сегодня архитектурных течений.
Истоки их, хотя вполне недавние, теряются в полемическом тумане. Почетный пьедестал оспаривают два имени: Адам Куинси, в 1937 году издавший в Эдинбурге любопытную брошюру под названием «К архитектуре без уступок», и пизанец Алессандро Пиранези [95], который несколько лет спустя воздвиг за свой счет первый «Хаос», недавно реконструированный. Невежественные толпы, движимые нездоровым нетерпением проникнуть внутрь, неоднократно поджигали его, пока наконец в ночь на святого Иоанна и святого Петра не превратили его в кучу пепла. Пиранези между тем скончался, однако фотографии и сохранившийся план позволили реконструировать его творение, которым мы можем ныне восхищаться и в котором, кажется, точно повторены очертания оригинала.
Когда в холодном свете современных перспектив читаешь небольшую, дурно отпечатанную брошюру Адама Куинси, она дает скудную пищу любителю новшеств. Отметим все же несколько абзацев. В одном из них говорится: «Эмерсон [96], с присущей ему изобретательной памятью, приписал Гёте идею о том, что архитектура – это застывшая музыка. Это изречение и наша личная неудовлетворенность созданиями современной эпохи внушают нам порой мечту об архитектуре, которая, подобно музыке, была бы прямым языком страстей, не стесненным требованиями, предъявляемыми к жилью или к общественным зданиям». Немного дальше читаем: «Ле Корбюзье полагает, что дом – это машина для обитания; такое определение применимо к Тадж-Махалу еще меньше, чем к какому-нибудь дубу или рыбе». Подобные утверждения ныне звучат как аксиоматические или тривиальные, но они вызвали в свое время гневные вспышки Гропиуса и Райта, уязвленных в самое сердце, и ошеломили многих знатоков. На остальных страницах брошюры содержится критика труда Рескина «Семь светочей архитектуры» – спор, теперь оставляющий нас равнодушными.
Не имеет – или почти не имеет – значения, знал Пиранези или не знал об упомянутой брошюре. Бесспорно то, что он с помощью фанатичных каменщиков и стариков воздвиг на прежде болотистой территории Чумной Дороги «Великий Хаос Рима». Это благородное здание, которое одним представлялось шаром, другим – чем-то яйцеподобным, а реакционерам – бесформенной громадой, здание, где смешана обширная гамма материалов – от мрамора до навоза, включая гуано, состояло в основном из витых лестниц, которые вели к непроницаемым стенам, из усеченных мостиков, из неприступных балконов, из дверей, разверзавшихся над колодцами или же выходивших в узкие и высокие помещения, где с потолка свешивались удобные двуспальные кровати и кресла вверх ножками. Не обошлось там и без вогнутых зеркал. В первом порыве энтузиазма журнал «Тэтлер» [97] приветствовал это сооружение как первый конкретный образец нового архитектурного мышления. Мог ли тогда кто-нибудь подумать, что в недалеком будущем «Хаос» сочтут творением неопределенного и преходящего стиля!
Мы, разумеется, не станем тратить ни капли чернил и ни минуты времени на то, чтобы описать и разнести вдрызг грубые подражания, предложенные публике (!) в луна-парке Вечного города и на самых известных ярмарках в Граде Просвещения [98].
Не лишен интереса, хотя и эклектичен, синкретизм Отто Юлиуса Маннтойфеля, чей храм Многих Муз в Потсдаме объединяет жилой дом, вращающуюся сцену, передвигающуюся библиотеку, зимний сад, великолепную скульптурную группу, часовню евангелистов, небольшой буддийский храм, каток, фресковую живопись, полифонический орган, обменный банк, веспасиановское заведение [99], турецкую баню и пастельные картины. Обременительное содержание этого многопрофильного здания привело к продаже его с торгов, а затем к неизбежному сносу – почти сразу же вслед за празднествами, отметившими день его открытия. Не забудьте дату! 23 или 24 апреля 1941 года!
Теперь настал черед упомянуть о человеке еще более оригинальном, о мэтре Вердуссене из Утрехта. Этот выдающийся дипломат писал об истории и творил ее: в 1949 году он опубликовал книгу под названием «Organum Architecturae Récentes» [100], a в 1952 году открыл под покровительством принца Бернарда свой «Дом из дверей и окон», как его ласково окрестил народ Голландии. Изложим главный принцип: стена, окно, дверь, пол и потолок, без сомнения, являются основными элементами habitat [101] современного человека. Самая легкомысленная графиня в своем будуаре, самый жуткий изверг, ожидающий в камере наступления рассвета, который усадит его на электрический стул, не могут уклониться от этого закона. La petite histoire сообщает нам по секрету, что достаточно было намека Его Высочества, чтобы Вердуссен прибавил еще два элемента: порог и лестницу. Здание, иллюстрирующее эти нормы, занимает прямоугольный участок в шесть метров по фасаду и чуть менее восемнадцати в глубину. Каждая из шести дверей, заполняющих весь фасад первого этажа, ведет к отстоящей от нее на девяносто сантиметров точно такой же одностворчатой двери, и так все дальше в глубину, пока, пройдя через семнадцать дверей, не упрешься в заднюю стену. Простые продольные перегородки разделяют шесть параллельных систем, насчитывающих в сумме сто две двери. С балкона дома, стоящего напротив, можно увидеть на втором этаже множество лестниц из шести ступеней, которые зигзагообразно поднимаются и опускаются; третий этаж состоит исключительно из окон; четвертый – из порогов; пятый, последний, – из полов и потолков. Здание стеклянное, благодаря чему из соседнего дома можно все разглядеть. Этот перл архитектуры настолько совершенен, что никто не решился ему подражать.
В общих чертах мы здесь представили развитие форм inhabitables [102], мощных и освежающих веяний искусства, не гнущих шею перед малейшими требованиями утилитаризма: в эти здания никто не заходит, никто в них не лежит, никто не сидит на корточках, никто не углубляется в ниши, никто не приветствует рукой с недоступного балкона. Никто не машет платочком, никто не выбрасывается из окна. «Lа tout n'est qu'ordre et beauté» [103].
P. S. Когда правка гранок вышеприведенного текста уже была закончена, нам сообщили по телеграфу, что в далекой Тасмании пробился новый росток. Хотчкис де Эстефано, державшийся доныне в рамках самых ортодоксальных течений «нежилой» архитектуры, опубликовал свое «Я обвиняю» [104], в котором бесстрашно выбивает почву из-под ног прежде почитаемого Вердуссена. Он доказывает, что стены, полы, потолки, двери, слуховые окна, простые окна – пусть они вовсе ни для чего не пригодны – это элементы устаревшие, ископаемые реликты функциональной традиции, которую пытаются изгнать и которая проникает через другую дверь. С барабанным боем он возвещает появление нового inhabitable, избавленного от подобного старья, не становясь, однако, сплошной бесформенной глыбой. С неослабевающим интересом ждем макетов, планов и фотографий этого нового эстетического достижения.
Gradus ad parnassum [105]
По моем возвращении из короткого, но заслуженного отпуска, проведенного в Кали и Медельине [106], меня в живописном баре нашего аэропорта Эсейса [107] ждало извещение в траурной рамке. Право, в определенную пору нашей жизни не успеешь оглянуться, как за твоей спиной кто-то отдаст концы. На сей раз я, разумеется, имею в виду Сантьяго Гинсберга.
В эту минуту я пытаюсь преодолеть скорбь о кончине близкого друга, чтобы исправить – именно то слово – промелькнувшие в прессе ошибочные толкования. Спешу заметить, что в этих неверных суждениях нет и тени неприязни. Они – плоды спешки и извинительного невежества. Я хочу лишь поставить все на свое место, не более того.
Кажется, некоторые «критики» – нелегка их задача! – забывают, что первой книгой, вышедшей из-под пера Гинсберга, был поэтический сборник, озаглавленный «Ключи к „ты" и „я"».
В моей скромной домашней библиотеке я храню под замком экземпляр первого издания, поп bis in idem [108], этой интереснейшей книжечки. На цветном титульном листе изображение лица, выполненное Рохасом, заглавие предложено Саметом, отпечатано в издательском доме Бодони, текст, как правило, четкий, – словом, полная удача!
Дата – 30 июля 1923 года нашей эры. Результат можно было предвидеть: фронтальная атака ультраистов, презрительная зевота именитых модных критиков, отзывы в одной-двух малозаметных газетенках и напоследок – непременная пирушка в отеле Маркони, на авениде Онсе. В череде сонетов никто так и не заметил определенные, весьма значительные новации, глубоко скрытые и лишь время от времени просвечивавшие среди блеклой тривиальности. Сейчас я их покажу:
Сошлись мы на углу с друзьями,
И время тихо обшлагом уходит.
О. Фейхоо (Каналь?) [109] многие годы спустя отметит («Трактат об Эпитете в Куэнка-дель-Плата») слово «обшлаг», считая его необычным и не обращая внимания на то, что оно фигурирует в лучших изданиях словаря Королевской Академии. Фейхоо называет его «смелым», «удачным», «новаторским» и выдвигает гипотезу – horresco referens [110], – что речь идет о наречии.
Для примера еще эффектное двустишие:
Губы любви, слитые в поцелуе,
Прошепчут тихо, нежно: «Нокомоко».
Честно вам признаюсь, что вначале это «нокомоко» было мне непонятно.
А вот и еще один образец:
Кордон! В оплошности светил я вижу
Ученой астрологии насмешку.
Насколько нам известно, первое слово этого красивого двустишия не вызвало ни малейшего комментария знатоков-лингвистов; подобное попустительство отчасти объяснимо, ибо слово «кордон», производное от латинского cor, cordis, красуется на странице двести четыре шестнадцатого издания вышеупомянутого словаря.
Во избежание неприятных последствий мы тогда сочли уместным заранее заявить в реестре Интеллектуальной собственности гипотезу, в ту пору неприемлемую, что слово «кордон» попросту опечатка и что стих этот следует читать:
Тритон! В оплошности светил я вижу
или, если угодно:
Дракон! В оплошности светил я вижу.
Пусть никто не назовет меня предателем – я играл с открытыми картами. Через шестьдесят дней после регистрации моей поправки я послал своему дорогому другу телеграмму, извещая его без обиняков о сделанном шаге. Ответ нас озадачил: Гинсберг заявил, что согласен при условии, если все три обсуждаемых варианта будут рассматриваться как синонимы. Что еще мне оставалось, спрошу я вас, как не склонить голову? Жест утопающего – я спросил совета у о. Фейхоо (Каналя?), который всерьез занялся этой проблемой, и все лишь для того, чтобы признать, что, несмотря на явную привлекательность всех трех версий, ни одна не устраивает его полностью. Судя по всему, мое предложение было сдано в архив.
Второй сборник стихов, с подзаголовком «Букет ароматных звезд», пылится в подвалах некоторых книжных лавок. На долгое время останется решающим мнение, изложенное на страницах журнала «Мы» в статье, подписанной Карлосом Альберто Прошюто, хотя, наряду с некоторыми другими авторами, этот выдающийся комментатор также не обнаружил идиоматические курьезы, которые своеобразно представляют истинную, ценную суть сборника. Правда, речь идет о словах коротких, обычно, чуть отвлечешься, ускользающих от критической бдительности: это «дрх» в квартете-прологе, «юхб» в уже классическом сонете, красующемся во многих школьных антологиях; «ньлль» в «клубочке» «К Любимой»; «хис» в эпитафии, дышащей едва сдерживаемой скорбью.
Но зачем продолжать? Напрасный труд. Мы также ничего не скажем о целых строках, где нет ни одного слова, фигурирующего в Словаре!
«Хлёх уд зд пта хабунч Хре'ф гругно»
Дело так бы и заглохло бесследно, кабы не вмешательство вашего покорного слуги, который чисто случайно откопал в хорошо сохранившемся портфеле исписанную собственноручно Гинсбергом тетрадь, которую в один прекрасный день неожиданно для всех восхвалят трубы славы, – «Codex primus et ultimus» [111]. Речь идет, совершенно очевидно, о totum revolutum [112], где собраны понравившиеся любителю словесности поговорки («Дитя не заплачет, мать не накормит», «Как хлеб, засохший без покупателя», «Стучи, и тебе отворят» и т. д. и т. д. и т. д.), рисунки яркой раскраски, стихи, отмеченные стопроцентным идеализмом («Сигара» Флоренсио Баль-карсе, «Нения» Гвидо Спано, «Сумеречная нирвана» Эрреры, «В Рождественскую ночь» Кероля [113]), список телефонных номеров и – not least [114] – самое надежное авторизованное толкование некоторых слов, вроде «обшлаг», «ньлль», «нокомоко» и «хабунч».
Итак, не спеша двигаемся дальше. «Обшлаг», восходящий (?) к «об» и «шлаг», в Словаре объясняется следующим образом: «Часть рукава возле запястья, окружающая его более или менее плотно». Гинсберг с этим не согласен. В его тетради есть собственноручная запись: «„Обшлаг" в моем стихотворении означает впечатление от мелодии, которую мы когда-то слышали, потом забыли и после многих лет опять вспомнили».
Он также открывает завесу над «нокомоко», утверждая буквально следующее: «Влюбленные твердят, что, сами того не ведая, жили, ища друг друга, что они уже друг друга знали прежде, чем свиделись, и само их счастье доказывает, что они всегда были вместе. Чтобы опустить или сократить столь долгое объяснение, я предлагаю воспользоваться словом „нокомоко" или ради большей краткости „мапю" или просто „то"». Очень жаль, что тиранические требования одиннадцатисложника заставили Гинсберга прибегнуть к самому неблагозвучному слову из всех трех. Касательно слова «кордон» в locus classicus [115] я приберег для вас величайший сюрприз: оно вовсе не означает, как может подумать заурядный читатель, границу государственную или иную, охраняемую или открытую. Нет, тетрадь нам сообщает, что Гинсберг предпочитал значение «случайно, произвольно, несовместимо с космическим порядком».
В таком же духе, обстоятельно, без спешки, покойник осветил большинство загадочных мест, заслуживающих внимания вдумчивого читателя. Ограничимся несколькими примерами – так, «хабунч» означает «меланхолическое паломничество в места, где мы некогда бывали с неверной», а «гругно» в самом широком смысле подразумевает «испустил вздох, не в силах сдержать любовную тоску». Как по горящим угольям, перемахнем через «ньлль», где, кажется нам, хороший вкус, который Гинсберг сделал своим высшим законом, на сей раз ему изменил.
Добросовестность велит нам переписать нижеследующую заметку после утомительных разъяснений, предложенных усопшим автором: «Суть моего замысла – создание поэтического языка из слов, не имеющих точных эквивалентов в обычных языках, однако обозначающих ситуации и чувства, которые были и всегда будут главной темой лирики. Читатель должен помнить, что определения слов вроде „хабунч" или „млей", приблизительны. Как-никак, это ведь первая попытка. Мои продолжатели внесут варианты, метафоры, нюансы. Они, несомненно, обогатят мой скромный словарь зачинателя. Одна лишь просьба – пусть не впадают в пуризм. Пусть изменяют и преображают».
Избирательный взгляд
Отклики желтой прессы на войну нервов, которую с барабанным боем провозгласило АОА (Аргентинское общество архитекторов) и разжигали закулисные маневры технического смотрителя площади Гарай, бросают дополнительный яркий свет – без каких-либо экранов или китайских ширм – на недооцененный труд и авторитетную личность самого неподкупного из наших мастеров резца – Антартидо А. Гарая.
Все это воскрешает в памяти, столь склонной к амнезии, яркие воспоминания о незабываемой рыбке-атеринке с картофелем, орошенной рейнвейном, которую мы вкушали в малой столовой Лумиса в двадцать девятом году. В тот вечер на улице Парера собрался цвет тогдашнего молодого поколения – я имею в виду литературную молодежь, – привлеченный соблазнительным угощением и музами. Заключительный тост с бокалом шампанского в руке, обтянутой изящной перчаткой, произнес доктор Монтенегро. Вокруг сыпались остроты, блестящие эпиграммы, а то и анекдоты про Франца и Фрица. Моим соседом за столом – оба мы сидели неподалеку от галисийца Монтенегро, этого Тантала во фраке, оставившего нас без десерта, – оказался молодой провинциал, воплощенная умеренность и благоразумие, ни разу не вздумавший пустить в ход кулаки, когда я самоуверенно громил пластические искусства. Надо признать, что, по крайней мере в этот вечер, мой сотрапезник выказал полное согласие с моими речами; позже, когда мы пили кофе с молоком в баре «На пяти углах», он, уже в конце моей критической филиппики о фонтане Лолы Моры [116] сообщил, что он скульптор, и, вручив мне пригласительный билет, предложил посетить выставку своих работ для друзей и любителей, которая должна была состояться в салоне «Друзья Искусства», бывшем «Ван Риель». Прежде чем ответить утвердительно, я выждал, пока он оплатит счет, на каковой подвиг он не решался, пока не зазвенел проходивший мимо ранний рабочий трамвай номер тридцать восемь.
Я не преминул явиться на открытие выставки. В первый день она проходила с бурным успехом, хотя к вечеру народу поубавилось и ни одна вещь не была продана. Таблички с надписью «Продано» никого не могли обмануть. Однако критики в прессе по возможности позолотили пилюлю: вспомнили Генри Мура и поощрили всякое похвальное начинание. Я сам, чтобы отплатить за угощение, опубликовал в «Revue de l'Amйrique Latine» [117] свою хвалебную заметочку, правда скрывшись под псевдонимом Ракурс.
Выставка отнюдь не ломала старых форм: она состояла из гипсовых слепков листьев, ног, фруктов, какие заставляет изображать школьная учительница рисования, расставленных по два или по три группами. Антар-тидо А. Гарай объяснил нам суть осмотра – мол, надо разглядывать не листья, ноги и фрукты, а пространство, то есть воздух между слепками, тогда перед нами предстанет то, что он назвал – а я повторил в публикации на французском – «вогнутой скульптурой».
Успех, который имела первая выставка, повторился несколько позже с выставкой номер два. Она состоялась в типичном старом районе Кабальито и представляла собою пустой зал без каких-либо предметов, если не считать четырех обшарпанных стен, нескольких лепных украшений на потолке и рассыпанной на деревянном полу полудюжины гипсовых обломков. «Все это, – проповедовал я невеждам из закутка, где я собирал свою жатву в виде билетов по сорок пять сентаво, – не стоит и гроша ломаного, для утонченного вкуса здесь главное – движущееся пространство между лепниной и обломками». Критика, не видящая дальше своего носа, не уловила несомненной эволюции автора за прошедший промежуток времени и тупо сожалела об отсутствии листьев, фруктов и ног. Результаты этой кампании, которую я не назову иначе, как неосторожной, не заставили себя долго ждать. Публика, сперва добродушная и подшучивающая, стала возмущаться и в конце концов дружно подожгла выставку как раз накануне дня рождения скульптора, который получил серьезные ушибы от соприкосновения гипсовых обломков с так называемыми филейными частями. Что ж до продавца билетов – вашего покорного слуги, – то он, почуяв беду и опасаясь раздразнить осиное гнездо, вовремя сбежал, прихватив фибровый чемоданчик с выручкой.
Дальнейший мой путь был ясен: найти убежище, гнездышко, уголок, где меня будет трудно обнаружить, и сидеть там не рыпаясь, особенно после того, как практиканты больницы Дюран выпустят на волю контуженого скульптора. По совету друга-повара я устроился в отеле «Новый независимый» на расстоянии полутора куадр [118] от авениды Онсе и занялся сбором материала для своего детективного исследования «Жертва Тадео Лимардо» [119], не упуская случая приударить за некой Хуаной Мусанте.
Несколько лет спустя в «Вестерн-баре», когда я пил кофе с молоком и булочкой, меня застал Антартидо А. Хотя от своих ушибов он уже оправился, у него хватило деликатности не напоминать мне о фибровом чемоданчике, и мы тут же возобновили нашу старую дружбу за чашкой кофе с молоком, которую он опять-таки оплатил из своего кошелька.
Но к чему столько вспоминать о прошлом, когда настоящее набирает силу? Самый безнадежный тупица поймет, что я говорю о потрясающей выставке на площади Гарай, которая увенчала упорный труд и творческий гений нашего слегка проученного героя. Все было спланировано в «Вестерн-баре». Кружки пива чередовались с чашками кофе с молоком, и мы двое, поодаль от других посетителей, вели дружескую беседу. Он поведал мне о своем замысле, который при ближайшем рассмотрении оказался всего лишь жестяной табличкой с надписью «Выставка скульптур Антартидо А. Гарая» на двух сосновых столбиках, которую нам предстояло водрузить на видном месте, чтобы ее не миновали прохожие, идущие с авениды Энтре-Риос. Вначале я настаивал на готическом шрифте, но в конце концов мы сошлись на обычных белых буквах по красному фону. Без разрешения муниципальных властей, воспользовавшись ночной темнотой, когда сторож спит, мы установили табличку под дождем, щедро поливавшим наши головы. Совершив сие деяние, мы разбежались в противоположных направлениях, чтобы не угодить в лапы полиции. Нынешняя моя квартира находится за углом, на улице Посос, скульптору же пришлось топать пешком до фешенебельного квартала площади Флорес.
На следующее утро, одержимый алчностью и желанием опередить моего друга, я поспешил на зеленый газон площади, когда первые лучи зари уже падали на нашу табличку и меня приветствовало пение птиц. Плоская фуражка с клеенчатым козырьком да халат булочника с перламутровыми пуговицами придавали мне официальный вид. Что ж до билетов, я предусмотрительно сохранил в своем архиве остаток от прошлой выставки. О, как отличались скромные прохожие, так сказать, случайные посетители, приобретавшие, не пикнув, билеты за пятьдесят национальных [120], от оравы сплоченных цеховыми интересами архитекторов, которые, не прошло и трех дней, вчинили нам иск! Несмотря на все доводы крючкотворов, дело наше вполне честное, всем очевидное. В конце концов это понял и сидящий в своей конторе на улице Пастер наш адвокат, доктор Савиньи. Окончательное решение должен вынести судья, которого мы подкупили малой долей того, что принесла нам билетная касса. Заранее предвкушаю, что буду смеяться последним. Да будет всем известно, что скульптурная экспозиция творчества Гарая, выставленная на одноименной площади, состоит из пространства вплоть до самого неба между зданиями на перекрестке улиц Солис и Павон, разумеется не исключая деревьев, скамеек, ручейка и проходящих граждан. Требуется всего лишь избирательный взгляд!
P. S. Планы Гарая расширяются. Равнодушный к исходу тяжбы, он теперь мечтает о выставке номер четыре, которая освоит всю зону вокруг универмага Нуньес. А завтра – как знать? – его передовое, сугубо аргентинское творчество, быть может, охватит всю атмосферу между пирамидами и Сфинксом.