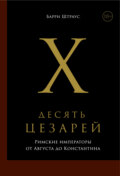Барри Штраус
Смерть Цезаря: Хроника самого громкого убийства в древней истории
Ни Антония, ни Децима не было рядом с Цезарем в Испании: рядом был Октавиан. Правда, он не успел принять непосредственного участия в сражениях, потому что был серьезно болен – здоровье часто подводило юношу. После выздоровления со своими спутниками он догнал Цезаря; причем по пути они успели потерпеть кораблекрушение, после чего им пришлось совершить опасную поездку по вражеской территории. Диктатор восхищался юношей, и это чувство лишь росло по мере того, как раскрывались ум и одаренность Октавиана. Цезарь удостоил своего внучатого племянника чести путешествовать с ним по Испании в одной колеснице[31]. Цезарь не впервые выражал Октавиану свое расположение: тот подавал большие надежды.
В 51 г. – ему было всего двенадцать – Октавиан взошел на ораторскую трибуну, чтобы произнести надгробную речь при погребении своей прабабушки Юлии, сестры Цезаря. В 48 г., в возрасте пятнадцати лет, он уже был избран одним из римских высокопоставленных жрецов. Кроме того, он временно исполнял обязанности высшего магистрата. Несмотря на юный возраст, он восседал на трибунале на форуме и выносил судебные решения – это зрелище производило серьезное впечатление[32]. В 46 г. Цезарь вернулся в Рим, чтобы справить триумфы за победы в Галлии и в гражданской войне[33]. В одном из триумфальных шествий диктатор даже позволил Октавиану следовать за его колесницей (вероятно, верхом) с офицерскими знаками отличия, хотя юноша не принимал участия в военных действиях[34]. Такой чести обычно удостаивались сыновья справляющего триумф полководца, и было ясно, что Цезарь считал своего семнадцатилетнего внучатого племянника практически своим сыном. Это интересовало окружающих.
В отличие от Антония, Децима и самого Цезаря, Октавиана нельзя было однозначно считать аристократом по крови. Благородным происхождением могла похвалиться только его мать, Атия; она, кстати, была дочерью Юлии, сестры Цезаря. Его отец Гай Октавий происходил из семьи богатой, но не относился к высшему классу; он был римским всадником – так называлось состоятельное сословие римских граждан, ступенью ниже, чем сенаторы. Гай Октавий стал первым сенатором в своем роду. Октавии переселились в Рим из Велитр (совр. Веллетри), небольшого и незначительного местечка в Альбанских горах неподалеку от Рима; но на выходцев из небольших городов римские снобы всегда смотрели сверху вниз. Гай Октавий сделал успешную военную и политическую карьеру, которую прервала его смерть в 59 г.; он ушел из жизни в возрасте около сорока лет.
В молодом Октавиане чувствовалось что-то особенное. Родство с Цезарем имело, конечно, большое значение, но это было лишь одно из обстоятельств, которые интересовали диктатора. Двоюродные братья Октавиана, Квинт Педий и Луций Пинарий, тоже внучатые племянники государя, не вызывали у него такого же уважения. Молодой Октавиан, должно быть, обнаруживал признаки развитого ума и стратегического мышления, честолюбие, тончайшее политическое чутье и безжалостность, – словом, тот гений, который в скором времени возведет его на вершину власти.
ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА
Четыре человека на колесницах, вступающие в Медиолан, не чувствовали особого единства. На расположение Цезаря претендовали трое, но только один мог быть фаворитом. Антоний вскоре должен был, с благословения Цезаря, стать консулом. Децим собирался занять пост претора и располагал согласием диктатора на другое важное наместничество, а через два года – на консульство. Октавиану уже совсем скоро предстояло получить столь же высокий пост, и даже еще больше власти.
Но как Антоний и Децим относились к внезапному появлению молодого соперника? Об этом можно только догадываться. Вернее всего, они недооценивали юношу: знатные римляне с презрением относились к молодым людям незнатного происхождения. Однако Антоний и Децим были тертые калачи: им было очевидно, что неспроста в свите Цезаря юноша занимает такое почетное место. В поступках своего соседа по колеснице, каким бы очаровательным тот ни был, Децим подозревал холодный расчет. Это ж надо: внук какого-то провинциального политика из Велитр ухитрился затмить в глазах диктатора благородного потомка основателя Республики! Сложно было назвать чувства Децима завистью, но он был римлянин, и внешние почести имели для него большое значение.
Цицерон утверждал, что Антоний стоял за попыткой убийства Цезаря в 46 г.[35] С одной стороны, типичное измышление, порочащее неугодного человека; такое было характерно для великого оратора. С другой стороны, его рассказ об одном событии, имевшем место в 45 г., кажется правдоподобным. Тем летом, отправляясь в Южную Галлию,[36] Антоний услышал от своего сослуживца осторожное предположение насчет убийства диктатора[37]. Он не проявил интереса к этим словам, но и не сообщил об услышанном диктатору, как поступил бы верный друг, – нет, Антоний оставил эту информацию при себе.
Когда победное шествие вступило в Медиолан, казалось, между людьми в колесницах царило согласие. Однако то был лишь фасад, прикрывающий борьбу за власть. Диктатору следовало бы это заметить, но пока его мысли занимали десятки видных римлян, приехавших на север, чтобы поприветствовать триумфатора. Марк Юний Брут (не будем путать его с Децимом Юнием Брутом) был самым важным среди них и самым непредсказуемым. Всего за несколько лет он превратился из врага в друга и помощника Цезаря. За его спиной всегда маячила объединяющая их фигура Сервилии; так звали мать Брута, в прошлом – любовницу Цезаря.
Глава 2
Лучшие из лучших

БРУТ
В АВГУСТЕ 45 Г. В МЕДИОЛАНЕ Цезарь встретился с Марком Юнием Брутом;[38] весь минувший год тот был наместником диктатора в Италийской Галлии[39]. Сейчас эта должность уже перешла другому человеку, и Брут вернулся в Рим. Но сейчас он вновь выехал в Северную Италию, чтобы отчитаться перед своим руководителем.
Инспекция, с которой прибыл Цезарь, не могла не вызывать определенного беспокойства; диктатора боялись, даже несмотря на его возраст. Его преследовали приступы головокружения – вероятно, симптом эпилепсии: он иногда страдал припадками.[40] Цезарь лысел. Пятнадцатилетняя война изрезала его лицо морщинами, щеки впали. И всё же это по-прежнему был хитроумный и опасный человек. Современник писал о нем как о воплощении одаренности, выдающегося ума, исключительной памяти, образованности, а также настойчивости, коварства и упорства в достижении целей.[41]
Но Брут был не из пугливых. В свои сорок он был во цвете лет: горделивый, талантливый в разных областях, всегда спокойный, изысканный и, возможно, слегка тщеславный. Во всяком случае, он держался настоящим командиром.[42] Портреты Брута (профиль на монете и мраморный бюст) изображают умного и волевого человека с классическими чертами лица. То был мужчина решительный, энергичный и повидавший жизнь. Характерные черты внешности: густые кудрявые волосы, темные брови, глубоко посаженные глаза, прямой нос, полные губы, выдающийся подбородок и мускулистая шея. При виде Цезаря по его спине, возможно, и пробежал холодок: ведь в отличие от Антония, Децима или Октавиана Брут когда-то ходил в недругах диктатора. Брут был примером политики милосердия Цезаря: тот прощал своих противников, а иногда даже одаривал их государственными должностями.
Доверив Бруту Италийскую Галлию, диктатор показал человеку свое доверие. Во время гражданской войны в 49 г. именно отсюда Цезарь отправился в поход на Рим. Галлия была провинцией стратегического значения, и в распоряжение наместника предоставлялись два легиона. На эту должность не должен был попасть чересчур амбициозный, некомпетентный или жестокий человек. Цезарь лично проконтролировал, чтобы местные жители получили римское гражданство и таким образом уравнялись в правах с остальными италийцами, а потому они охотно поддерживали диктатора, но требовали хорошего к себе отношения и в дальнейшем. В общем, здесь требовался способный, но не слишком суровый администратор. И Брут казался прекрасным кандидатом на это место.
В отличие от Антония, Децима или самого Цезаря Брут не был военачальником. Он предпочитал мирную жизнь в соответствии с римскими конституционными нормами. В Риме не имелось записанной конституции: было принято следовать определенным методам управления государством. Для людей, подобных Бруту, римские политические принципы значили очень много, но крайне мало – для тех, кто не попадал в узкий круг привилегированных граждан. Брут был философом, но притом – представителем высшего света. Он верил в Республику, в свободу, в приятные одолжения друзьям, в продвижение по карьерной лестнице. Цезарь умел договариваться с такими людьми. И Брут оказался замечательным наместником – тем редким римлянином, который не грабил бы местное население. Жители провинции даже установили его статую в Медиолане.[43]
Впрочем, Брут, по всей вероятности, не был в восторге от этого назначения. Исполняя должность квестора в Киликии (Южная Турция) в 53 г., он преспокойно набивал кошелек, вымогая деньги у населения; в Италийской Галлии ему подрезали крылья. Цезарь был верен своей стратегии доброжелательных отношений с провинциальными элитами; грабить их стало сложнее, а кроме того, Цезарь установил за наместниками постоянную слежку, особенно в таких важных местах, как Италийская Галлия. Вымогательство у местных жителей стало для Брута невозможным[44]. У диктатора были и другие способы наградить тех, кто ему служил; но эти милости зависели от расположения Цезаря, а не от статуса того или иного римского аристократа.
И вот теперь Цезарь в компании Брута продвигался через Италийскую Галлию[45] и, вероятно, советовался с ним о том, какие земли в этой процветающей провинции он может передать своим ветеранам. Диктатор хвалил Брута за прекрасную службу, сулил ему большое будущее и обещал сделать городским претором (главным судьей) на 44 г. и консулом на 41 г. После диктатора именно консулы оказывались в Риме высшими должностными лицами[46]. Зная манеру Цезаря вести дела, мы можем предположить, что он наверняка дал еще несколько обещаний. В годы гражданской войны в его руках сосредоточились все возможные полномочия, но некоторые оптимисты верили, что теперь, когда вновь установился мир, Цезарь вернет власть сенату и римскому народу. Сам Цезарь поддерживал в людях подобные надежды, что было несложно. Вероятно, именно это имел в виду Брут, когда впоследствии утверждал: он был уверен в переходе диктатора на их сторону – на сторону элиты, которая традиционно управляла Римом и отчаянно цеплялась за свои ограниченные и консервативные представления об общественном благе.
В Риме не имелось политических партий, но всех политиков легко можно было поделить на две группы. Представители того слоя высшего класса, к которому принадлежал Брут, называли себя «лучшими людьми» – оптиматами (от лат. optimus – «наилучший»). Альтернативу оптиматам представляли популяры, или популисты (от лат. populus – «народ»). Обе эти группы возглавляли аристократы, которые боролись за голоса избирателей из простонародья; так, они зарабатывали популярность за счет того, что «продавливали» те или иные социальные пособия.
Оптиматы были сторонниками наследственного характера привилегий. Они считали, что совсем небольшая группа потомственных аристократов должна продолжать управлять империей с населением в 50 миллионов человек точно так же, как на протяжении веков управляла городом Римом. С этой точки зрения очень немногие люди имели соответствующие происхождение, воспитание, состояние и доблесть, необходимые для того, чтобы суметь сохранить величие и независимость государства. Оптиматы не хотели делиться своими привилегиями даже с италийской знатью или знатью из провинций, не говоря уже о более низких социальных классах.
В свою очередь популяры выступали за перемены.[47] Они представляли интересы бедных, безземельных, запутавшихся в долгах аристократов, а также состоятельных, но незнатных людей, разбросанных по всей Италии, социальной группы, известной как «римские всадники», которые стремились войти в сенат.
Сенат был государственным органом и одновременно закрытым клубом для элиты. Членство в сенате было пожизненным, и сенаторы ревностно охраняли свои привилегии. В сущности, сенат по большей части заполняли представители всего нескольких семей: каждый из сенаторов когда-то исполнял в Риме одну из высших политических должностей, большинство из которых были годичными; иногда за этим следовала служба за пределами Италии, а затем до конца жизни – пребывание в сенате. Оптиматов среди сенаторов насчитывалось больше, чем популяров.
Цезарь не был оптиматом. Совсем даже наоборот – он был величайшим популистом Рима, собравшим новую и обширную коалицию, которая пришла к власти благодаря поддержке со стороны народа и решимости легионеров.
Римляне называли свою политическую систему res publica (с лат. – «общественное дело»). И в этом смысле оптиматов крайне беспокоил вопрос: останется ли Рим Республикой – с Цезарем во главе?
ЦИЦЕРОН
Если кто и говорил от лица Республики в 45 г., то это был Марк Туллий Цицерон. Говорил, впрочем, вполголоса: немногие решались публично выступать против диктатора. Бывший консул и лидер оптиматов поддерживал Помпея в гражданской войне в 49 г., но затем помирился с Цезарем. К своим шестидесяти годам великий оратор оставил политическую жизнь и полностью посвятил себя философии. С античного бюста на нас взирает энергичный мужчина с орлиным носом и массивным подбородком; впрочем, лицо его тронуто морщинами, голова облысела: мы видим приметы старости.
Цицерон не доверял диктатору. Он за глаза называл того царем[48] и считал нелепостью оптимизм Брута в отношении Цезаря и оптиматов.
На вести от Брута о якобы республиканских намерениях диктатора Цицерон отвечал, что новоявленному желающему присоединиться к оптиматам придется ради этого повеситься[49] – столь немногие из оптиматов выжили после резни в гражданскую войну. Брут был одним из них, а может быть, Цицерон считал его таковым, во всяком случае политик огорчил великого оратора: Цицерон посчитал, что Брут служит Цезарю из корыстных интересов[50], [51].
Но одно дело выражать скепсис в отношении Цезаря, если находишься на расстоянии нескольких сотен миль от него. Совсем другое – говорить с ним лицом к лицу в одной комнате, как приходилось Бруту. Цицерон это хорошо понимал, а потому сыпал ругательствами только за спиной диктатора и всячески славословил его при всем честном народе. Цезарь и сам был одним из наиболее влиятельных римских ораторов, притом чрезвычайно харизматичным. Цицерон писал, что тот «говорит по-латыни едва ли не чище всех других ораторов»,[52] на что Цезарь вежливо отвечал, что считает Цицерона «первооткрывателем всех богатств красноречия, столь много послужившего во славу и величию римского народа».[53] Он даже пошел еще дальше, сказав о Цицероне, что «настолько расширить границы римской образованности – дело куда более славное, чем расширить границы империи».[54] Впрочем, о политических успехах Цицерона Цезарь едва ли выражался с такой же теплотой, но с этими успехами приходилось считаться.
Ряд философских текстов Цицерона, относящихся к 46–44 гг., содержат замечательное описание республиканских идеалов. Цицерон оплакивал Республику, понимая, что она может не выжить, если устоится нынешний режим. Да и сами римляне были довольно практичным народом: республиканские идеалы, казалось, уходили в прошлое. В письме 46 г. Цицерон писал об «утрате» свободы: Республика лежит в руинах и управляется силой, а не законом.[55] Однако позднее в том же году он сообщал другу, что его обнадеживают намерения диктатора установить в Риме своего рода конституционную систему.[56] В целом Цицерон с симпатией относился к Бруту, пусть тот и любезничал с Цезарем. «Но что делать ему?» – вопрошал Цицерон.[57]
Так или иначе, Цицерон признавал талант Брута и его выдающееся положение. В трактате «Брут, или О знаменитых ораторах» можно найти самый щедрый комплимент, которым Цицерон мог одарить политика: оказалось, на ранних этапах карьеры Брут был так успешен, что мог стать великим оратором на форуме. Иными словами, Брут мог бы быть похож на Цицерона в его лучшие годы. Это преувеличение попало в текст, несмотря на сомнения автора в ораторских способностях Брута. Что касается скромных ораторских успехов последнего, причина их проста: близость к Цезарю пагубно влияла на свободу слова. Подхалимство вытесняло откровенность; так, в одной из речей 46 г. Цицерон громко говорил о «бессмертной славе» диктатора, которой тот достиг в силу своей «внушенной богами доблести».[58] Позже великий оратор писал другу, что этот день показался ему таким прекрасным, будто он застал возрождение Республики.[59]
Однако в обновленном Риме сложно было оставаться оптимистом. Цицерон роптал и мрачно вспоминал греческую историю, богатую примерами того, как мудрые люди терпели regnum и rex (regnum – «царская власть», rex – «царь»).[60] В Риме эти слова были бранными. В сознании римлян монархия стала близка к произволу, тирании и порабощению.[61] Единоличный правитель являлся врагом свободного конституционного государства.
Предки Брута были известны тем, что когда-то давно изгнали последнего царя из Рима. Но благородный потомок тираноборцев не оказывал никакого противостояния Цезарю, даже наоборот: казалось, верил в его болтовню. На то, по крайней мере, жаловался Цицерон, которому следовало бы давно уже понять – Брут верил только в собственную выгоду.[62] В моменты серьезных перемен он демонстрировал удивительную гибкость. Возможно, истоки его непостоянства обнаружатся в детстве.
СЕРВИЛИЯ
Мать Брута Сервилия была одной из самых влиятельных женщин в Риме – умной, привлекательной и тщеславной особой. Она происходила из влиятельного патрицианского рода. Ее семья имела хорошие связи; впоследствии Сервилия положила много сил на их укрепление и приобретение новых. Но никого не было для нее в жизни важнее двух мужчин: сына и любовника.
В 77 г. Брут потерял отца; мальчику исполнилось восемь лет. Его отца тоже звали Марк Юний Брут; он был одним из предводителей мятежа, подавленного Помпеем. После длительной осады отец Брута сдался на милость победителя, но затем его вероломно убили. Либо Помпей самолично отдал жестокий приказ, либо он не сделал ничего, чтобы предотвратить убийство. Так или иначе, родственники убитого ненавидели и презирали полководца.
Воспитание ребенка легло на плечи Сервилии. Римлянки выходили замуж очень молодыми, и Сервилия родила Брута (около 85 г.), будучи совсем юной. Овдовев в двадцать с небольшим, она вышла замуж за другого солидного политика, но уже не по любви.
Эта женщина умела привлекать властных мужчин, но свои симпатии приберегла для самого могущественного из них – Цезаря. По словам историка Светония, «больше всех остальных любил он [Цезарь] мать Брута, Сервилию: еще в свое первое консульство он купил для нее жемчужное украшение, стоившее шесть миллионов».[63] Эта сумма приблизительно в семь тысяч раз превышала годовое жалованье одного легионера, что в современных условиях составляет несколько сотен миллионов долларов.[64]
Сервилия была доверенным лицом Цезаря, его глазами и ушами в Риме во время военных походов, а иногда и переговорщиком в деликатных политических вопросах. Позже диктатор переключился на другой роман, но Сервилия по-прежнему мастерски вмешивалась в крупные политические дела и принимала в них активное участие. Она также старательно поддерживала связи с богатыми и влиятельными людьми.[65]
Как и многие влиятельные женщины, которыми была богата та эпоха, Сервилия оказывалась важным действующим лицом политического закулисья. Эта «благоразумнейшая и заботливейшая женщина»,[66] как ее описывал Цицерон, порой прямо влияла на законодательные решения, организовывая у себя дома собрания с ищущими ее совета государственными мужами.[67] Все считали такое положение дел вполне приемлемым.
Однако главной ее заботой были дети. Она выдала трех дочерей замуж за перспективных политиков. Как писал Цицерон уже взрослому Бруту, все помыслы матери были «обращены» к сыну и «поглощены» им,[68] – и так с самого детства. Сервилия бросала все силы на построение карьеры сына, начиная с того, что он был усыновлен ее семьей[69]. Образцом для подражания молодой Брут выбрал своего дядю (сводного брата матери) Катона – заклятого врага Цезаря.
Казалось, Брут полжизни оправдывал суровые ожидания дяди, а вторую половину жизни равнялся на них. В 46 г. – за год до того, как Брут встречал Цезаря в Медиолане, – Катон погиб. Чувствовалось, однако, что призрак его как будто где-то рядом – неодобрительно взирал на Рим и беспокоил сердце Брута. Бездыханный дядя говорил со своим подопечным громче, чем при жизни.
КАТОН
Катон был весьма своеобразным человеком: талантливым чудаком, красноречивым оратором и патриотом. Он принадлежал к высшему классу и смотрел на народ свысока, но при этом отстаивал свободу слова, нормы конституции, гражданский долг и гражданскую службу, прозрачное управление, идеалы просвещения и общественные интересы.
Как и Цезарь, Катон впечатлял современников возвышенностью целей и умением убеждать. Но в отличие от диктатора он был аскетом. Катон следовал философии стоиков и выказывал презрение к роскоши: в частности, путешествовал пешком, а не в носилках, как прочие люди его социального слоя. Мог босиком пройтись по римской мостовой. Его портретный бюст показывает нам человека, серьезно и задумчиво глядящего вдаль.[70]
Катон верил в Республику – суровую, добродетельную и свободную. Республиканское правительство должно обращаться за советом в сенат, где все вопросы открыто обсуждаются самыми благородными, мудрыми и опытными римлянами.
Он полагал, что Цезарь заботится только о власти и славе, что ради своей карьеры диктатор уничтожит Республику. Как-то в гневе Катон назвал Цезаря «пьяницей», хотя в действительности прекрасно понимал, что к чему. «Цезарь один из всех берется за государственный переворот трезвым», – скажет он чуть позже.[71] Постоянные нападки на Цезаря однажды обернулись против самого Катона, заставив его покраснеть в сенате. Во время напряженного обсуждения Цезарю передали письмо. Заподозрив заговор, Катон потребовал прочитать письмо вслух – и тут оказалось, что это любовная записка от его сводной сестры Сервилии[72], [73].
Брут разделял неприязнь Катона к любому человеку, который монополизировал политическую власть. Они оба считали, что свобода требует разделения власти. Предком Брута, как и его дальнего родственника Децима, был легендарный основатель Республики, изгнавший в 509 г. последнего царя, а его предком со стороны матери считался Гай Сервилий Агала, убивший потенциального тирана в 439 г. Чтобы заявить о своем происхождении, Брут изобразил семейное древо в своем кабинете (tablinum), в дополнение к восковым маскам предков, которые бережно хранились в каждом знатном доме.
В отличие от Децима или чуждого интеллектуализму Антония, Брут разделял страсть своего дяди к философии, так же как, вероятно, и презрение к любовнику Сервилии – Цезарю. Едва ли Брута не задевали слухи о том, что он был внебрачным сыном Цезаря. Это вряд ли соответствовало действительности, ведь в год рождения Брута (85 г.) его «отцу» было только пятнадцать лет. Но по иронии судьбы эти слухи были очень полезны молодому политику в плане карьерного продвижения, даже если его мучила мысль о незаконнорожденности.
Бруту, таким образом, приходилось лавировать между Катоном и Сервилией. Это обстоятельство развило в молодом человеке не только склонность к компромиссам, но и – как выяснилось впоследствии – способность к предательству.
ПЕРЕХОД НА СТОРОНУ ЦЕЗАРЯ
Между тем молодой Брут успешно выстраивал карьеру. В 53 г. он воспользовался своим постом квестора, чтобы ссудить жителей одного из городов на Кипре деньгами под непомерно высокие 48 % годовых. А когда должники отказались платить, вооруженные всадники по приказу Брута держали взаперти членов городского совета, пока пятеро из них не умерли от голода[74]. Цицерон был шокирован этими известиями.
Через четыре года, в 49 г., началась гражданская война. Катон возглавил твердолобых консерваторов, считавших, что Цезарь представляет настолько серьезную угрозу для Республики, что ни о каких компромиссах с ним не может быть и речи. Следуя за Катоном и его республиканскими идеалами, Брут присоединился к Помпею, хотя по-прежнему обвинял его в смерти отца. В ходе дальнейших военных действий, в 48 г., Брут участвовал в великой битве при Фарсале – против Цезаря. После поражения Помпею удалось бежать. Бруту в каком-то смысле тоже: он ускользнул из осажденного лагеря и пробрался через болота в соседний город, как сообщает один из исторических источников. Там он написал Цезарю письмо.
Цезарь провозгласил политику милосердия, и Бруту, вероятно, было об этом известно. Поверженные враги получали помилование – ошеломляющие перемены, если сравнивать с правлением предыдущего диктатора, Луция Корнелия Суллы. При его суровом правлении (82–80 гг.) врагов казнили, а их имущество конфисковывали. Цезарь демонстрировал, что он не Сулла и теперь всё будет иначе. Так вот, Брут желал не только помилования. Он хотел жить в достатке и процветании – и всё это получил.
Некоторое время циркулировали слухи, что при Фарсале Цезарь приказал щадить Брута – в качестве одолжения Сервилии.[75] Но Цезарь никогда не позволял себе сентиментальности, а потому если тут и была доля правды, то наверняка имели место политические мотивы. Во-первых, влияние Сервилии действительно было достаточно велико: она могла стать либо очень выгодным другом, либо крайне опасным врагом. Во-вторых, предполагается, что Цезарь знал о сплетнях, согласно которым Брут – его бастард,[76] и хотел избежать даже тени подозрения в том, что он способен на убийство собственного чада.
Важную роль имело и мнение самого Цезаря об этом человеке. Несколько лет спустя один из его близких друзей рассказывал Цицерону, что часто слышал от него такую характеристику Брута: «Очень важно, чего он хочет, но чего бы он ни хотел, хочет он сильно».[77] Цезарь видел в нем человека полезного и целеустремленного – и в то же время такого, которого трудно связать обещанием.
Главная ценность Брута, с точки зрения Цезаря, состояла в ином: этот молодой человек был символом. Племянник Катона пользовался популярностью в Риме: широко известна была его честность, – и вместе с тем Брут должен был стать первым римским аристократом, перешедшим на сторону Цезаря[78]. Может быть, сам Брут считал, будто сделал всё что мог в сражении при Фарсале, а теперь, с победой Цезаря, наступило время принять новый порядок вещей: всё же он не был фанатичным консерватором.
Цезарь принял Брута со всей теплотой. Вот что сообщает о том Плутарх: они отправились вдвоем на прогулку, без спутников, и Цезарь поинтересовался, куда направился Помпей. Брут отвечал, что не знает, но, вероятно, его целью является Египет, где у него есть союзники. Согласно Плутарху, Цезаря убедили эти слова: он отверг остальные варианты и направился в Египет.[79]
В своих «Записках о гражданской войне» Цезарь излагает другую версию событий,[80] в которой история служит пропаганде: нельзя было без должной осторожности описывать конфликт, повлекший за собой гибель множества римлян. Цезарь утверждает, что первоначально он направлялся за Помпеем на Восток, в Эфес (совр. Турция). Однако затем он узнал о том, что Помпея видели на Кипре, и это навело его на мысль о Египте как конечной цели Помпея. Только тогда он устремился в том же направлении. При этом Цезарь ни разу не упомянул Брута в «Записках…». Возможно, он хотел замять эпизод с предательством им Помпея, а может быть, и вправду счел полученную от Брута информацию недостаточно точной, чтобы сразу менять маршрут.
Цицерон тоже помирился с Цезарем, но многие сенаторы продолжали борьбу. У них всё еще были войска, деньги и самый сильный флот в Средиземноморье. Их вожди отправились в римскую провинцию Африка (совр. Тунис), где они могли рассчитывать на поддержку со стороны союзников. Помпей прибыл в Египет, но был убит, едва ступив на берег.
Еще год понадобился Цезарю, чтобы расправиться с врагами в римской Африке. Окончательно они были разбиты в апреле 46 г. Затем Цезарь продвинулся на запад до Утики (запад совр. Туниса), портового города и столицы провинции Африка. В этом городе распоряжался Катон – последний, кто продолжал сопротивление в тех местах. Цезарь получал удовольствие от мысли о великой символической победе, которой стала бы капитуляция Катона; он хотел, чтобы Катон принял его милосердие.
Но Катон отказался. Он считал Цезаря тираном,[81] а милосердие тирана было для него хуже смерти. Катон решил покончить с собой. Своему сыну он сказал, что был воспитан с идеей свободы[82] слова и дела, а теперь слишком стар, чтобы учиться рабству. Оставшись ночью один, он поразил себя ударом кинжала в живот.[83] Близкие нашли его, и врач зашил рану, но Катон всё-таки разорвал швы и скончался.
Когда Цезарь узнал об участи Катона, он будто бы произнес: «Катон, ненавистна мне твоя смерть,[84] потому что и тебе ненавистно было принять от меня спасение!» Самоубийство Катона подпортило рассказ Цезаря, и автор «Записок…» вполне мог бы умолчать о том.
Сегодня нам кажется, что римляне восхищались мужеством добровольного ухода из жизни, но на самом деле это отношение установилось гораздо позднее. В 46 г. самоубийство еще осуждалось: даже Брут считал поступок дяди нечестивым[85] и недостойным мужчины.
Вернувшись в Рим в 46 г., он получил разрешение сената отпраздновать подряд четыре триумфа. Это была его возможность превзойти Помпея, отпраздновавшего три триумфа, которые приходились на разные годы и были отделены друг от друга большим временным промежутком[86]. Последний триумф Помпея – в 61 г., в честь его побед на Востоке, – был особенно грандиозным. Цезарь, конечно, постарался организовать еще более роскошные мероприятия.
Поскольку праздновать гибель римских граждан было неудобно, Цезарю пришлось затушевать в своих триумфах тему гражданской войны. Он выдвинул на первый план свои победы над галлами и другими иноземными врагами[87]. Толпа приходила в восторг от таких экспромтов, как эпизод с легионерами, распевающими:
Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника.
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии.[88]
Триумфальные шествия включали демонстрацию плакатов с изображениями и именами. Цезарь позаботился о том, чтобы на них не было имен римских граждан, но всё же разрешил выставить картины, изображающие самоубийство трех ведущих римских военачальников после поражения в Африке. Одна из этих картин показывала Катона, «самого себя раздирающего, как зверь»: в толпе охали и стенали.[89] Между тем, упоминая смерть Катона, Цезарь только оживил память о своем заклятом враге.