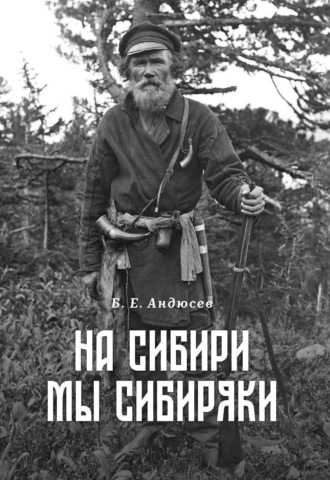
Б. Е. Андюсев
На Сибири мы сибиряки
© Андюсев Б. Е., текст, 2023
© Быконя Г. Ф., предисловие, 2023
© Ульверт А. В., макет, 2023
© КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей», фотографии, 2023
© Издательство «РАСТР», 2023
Дорогу осилит идущий
Человек и ученый Борис Ермолаевич Андюсев

Я знаю Бориса Ермолаевича с 1970 года – со времени поступления его в Красноярский педагогический институт (ныне университет) на историко-филологический факультет. В годы обучения 17-летний сельский паренек запомнился неподдельным интересом к учебе, всеядностью к отечественной истории (сказалась увлеченность краеведческой работой в школьные годы), особым позитивно-эмоциональным отношением к людям. На сельхозработах и на археологической практике на Тамани он не чурался никакой работы, был добрым, чутким и отзывчивым, душевным, настоящим любимцем у товарищей, даже зачастую старше его. Тогда же мы узнали о его даре художника.
После успешного окончания института и военной службы Борис Ермолаевич с 1976 года 19 лет проработал в трех школах Красноярского края. И везде он организовывал поисковые клубы и вел с учениками историко-краеведческую работу. В результате деятельности учителя истории появились историкокраеведческие музеи в Имисской средней школе Курагинского района, Балахтонской средней школе Козульского района и Северо-Енисейской средней школе № 2 Северо-Енисейского района. Он вспоминал: «Всего за два десятка лет поисковой деятельности мы с ребятами восстановили данные о более чем семидесяти без вести пропавших солдат и офицеров. Работал над составлением Книги памяти Северо-Енисейского района, организовал летний археологический лагерь при Фанагорийской экспедиции АН СССР. Дважды возил группы учеников по 25–28 человек на раскопки. За время работы в школах края 14 учеников поступили на исторические факультеты различных вузов. Две ученицы стали впоследствии кандидатами наук».
Согласитесь, очень впечатляющий перечень, и это при серьезных проблемах со здоровьем в течение многих десятилетий. Огромное трудолюбие и творческая, патриотически направленная мотивация обусловили высокое профессиональное мастерство педагога-предметника. Важно, что глубокое проникновение в предмет, стремление достичь полной взаимной обратной связи с учеником и человеческая заинтересованность в результатах обучения делали предметника-историка методистом, который никогда не разделял обучение и воспитание, учебный процесс и внеклассную работу. Разработанная им в течение восьми лет методика модульно-блочного обучения истории, опубликованная в 1994 году в Москве как «Учебный комплекс, методические материалы и обобщение опыта работы», была замечена на федеральном уровне и рекомендована учителям истории всей страны.
Естественно, что такого классного специалиста на следующий год привлекли к работе в институте усовершенствования учителей Красноярского края и в педагогическом университете на родном историческом факультете. Это, можно сказать, уникальный случай, когда учителя сельской средней общеобразовательной школы переводом принимали на работу сразу в два высших учебных заведения.
Уже на новом уровне Борис Ермолаевич продолжил заниматься разработкой регионального компонента образования, повышением квалификации учителей истории и краеведения. На смену учащимся школьных классов пришли на последующие 28 лет студенты вузовских аудиторий. В научном же плане он, естественно, не захотел расставаться с краеведением малой родины, но уже на теоретическом уровне историей Приенисейского края. Сугубо новаторская выбранная проблема оказалась на стыке истории, этнологии, психологии, этнографии, культурологии. Результат обобщения полевых материалов в работе со старожилами сибирских селений наложился на глубокое изучение источников архивных фондов и библиотек. В 2002 году он блестяще защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Отечественная история» по теме «Традиционное сознание крестьян – старожилов Приенисейского края 60-х гг. XVIII – 90-х гг. XIX в.». И далее, продолжая работать уже в должности доцента кафедры отечественной истории, в 2004 году создал кафедру современных технологий обучения КГПУ им. В. П. Астафьева и стал ее заведующим. Команда талантливых преподавателей кафедры добились своей творческой работой того, что была признана лучшей кафедрой вуза по итогам 2011 года.
Почетный работник общего образования РФ доцент Борис Ермолаевич Андюсев с 2016 года работает в Сибирском федеральном университете на кафедре истории России.
За время работы в вузах Борис Ермолаевич опубликовал около 130 научных и методических работ, из них около десятка монографий (лично и в соавторстве), примерно столько же учебно-методических пособий и др. Особо выделяется учебное пособие «Сибирское краеведение», которое в течение восьми лет трижды переиздавалось – в 1998, 2003 и 2006 годах – и получило федеральный гриф МО РФ «Рекомендовано» для учебных заведений РФ.
Разрабатывая хронологически вширь и теоретически вглубь прежнюю научную проблематику, ученый, по его словам, пошел «непроторенной тропой исторической этнопсихологии». Уже не столько как историк, а как культуролог, исторический этнопсихолог, Борис Ермолаевич сформулировал и обосновал ряд новаторских положений об адаптационных, в физическом и психологическом плане, процессах формирования и развития на базе русских сибиряков-старожилов в XVII – начале XX века субэтноса (особой ветви) российской нации с особым «сибирским характером». С позиций междисциплинарности в едином проблемном поле истории, этнологии, психологии автор ввел в историческое исследование этот термин.
Им предложено в качестве базового следующее определение: «Сибирский характер – это исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт, ценностей и традиций, темперамента представителей сибирского субэтноса, определяющих манеру поведения и типичный образ действий и проявляющихся в их отношении к окружающему миру стереотипах поведения в социуме». Русские старожилы освоили экстремальный регион, но одновременно и сами были «освоены» Сибирью «по образу и подобию» этого края.
Предыдущие результаты комплексного изучения историко-культурных и ментально-психологических процессов в среде русских старожилов представлены в научно-популярном изложении в настоящей книге «На Сибири мы сибиряки». В качестве центрального проблемного вопроса автор научных очерков задал вызовы: «Кто ты, сибиряк? Чьих вы будете, старожилы?» Ответом в процессе изучения и осмысления этих проблем стало понимание, что физическая адаптация русских в Сибири сформировала «природного» рационально мыслящего сибиряка. Одновременно в ходе психологической адаптации сформировались особенные черты характера в ментальности и стереотипах поведения. Сибиряк соединил в этом характере русскую традиционную духовность и западный рациональный прагматизм.
В историографических анализах и обзорах своих работ сибирские историки неоднократно отмечали, что именно Б. Е. Андюсев впервые выдвинул как научную проблему «психологической адаптации» русских в ходе освоения экстремального края. Наработанное и привычное для специалистов практической психологии понятие «психологическая адаптация человека» он ввел в историческое исследование. В контексте своих подходов автор очерков представил в динамике развития свое видение оснований становления сибирского земледелия, адаптированных к вызовам Сибири социальных отношений, формирования духовной культуры старожилов.
В 14 очерках книги, посвященных характеристике комплекса материальной, социальной, духовной культуры, новой идентичности и самосознания старожилов, автор убеждает в «высокой нравственности, совестливости и трудолюбии старожилов. Сибиряки – люди мужественные и свободные, стойкие и гордые, честные и высоконравственные, „славутные“ в труде и общественной жизни, любознательные и предприимчивые».
Вольные или невольные переселенцы – «российский человек» и представители иных этнических культур народов Евразийской России, народов Прибалтики, Польши – проходили социальную и психологическую адаптацию в сибирской среде русского старожильческого населения, в общине деревни или городского посада, в поколениях закрепляя новую идентичность и стереотипы поведения. Выработанные автором технологии реконструкции субэтнического характера «старожилов-сибиряков» привели к важной мысли об известной повторяемости этнокультурных и психоментальных процессов в истории русского народа – процессов обживания славянами Восточно-Европейской равнины в VII–XIII веках и освоения Сибири в XVII–XVIII веках. Можно лишь добавить, что аналогичные процессы протекали в XIV–XVI веках при формировании преемственного этноса средневековых русских на основе части восточных славян – русичей и народов от Волго-Обского междуречья до Северного Урала.
Авторская реконструкция традиционного сознания сибиряков убеждает, что оно «содержало совокупность ценностей „картины мира“, адаптированных традиций обычного права, материальной и духовной культуры. При этом адаптация приняла для сибиряков непрекращающийся процесс выработки ответов на вызовы: сначала природно-климатические и этнокультурные, позднее постоянных потоков „российской“ культуры ссыльных, переселенцев от „самоходов“ до „столыпинских“, и, наконец, – вызовов капиталистической модернизации».
В своих очерках Борис Ермолаевич Андюсев справедливо отмечает, что общая зажиточность сибиряков обусловила в ментальности старожилов несколько иные духовные ценности в отличие от ценностей великорусского крестьянина. Им присущ социальный идеал зажиточности, скупости, рациональной организации образа жизни в «своем мире», а не социальная уравнительность. При этом автор неоправданно идет дальше, утверждая, что «накопительство, скупость, стремление к наживе нами оцениваются в качестве позитивных черт сибирского характера». Вряд ли стоит подчинять экономическим интересам духовно-нравственные и «стремление к наживе» считать положительной чертой характера даже у православных сибиряков. Конечно, сами сибиряки не считали зазорным кабалить чужаков (срабатывал стереотип отношений «мы» и «они»), но местные Колупаевы и Разуваевы наживались и на попавших в беду односельчанах. Нужно также учесть, что круговая порука в несении налогов и натуральных повинностей, то есть обязанность платить раскладкой, как говорится, за себя и за того парня, снижала и у сибирских, по В. И. Ленину, «самых сытых крестьян в России» стремление к максимальной хозяйственной активности.
В целом Борис Ермолаевич Андюсев впервые в науке предложил интересную, но не бесспорную, этносоциокультурную модель сибиряков традиционной эпохи. Изложенная ярким и в целом достаточно доступным языком, книга, уверен, найдет своего массового читателя с самым широким кругом научных и познавательных интересов.
Г. Ф. Быконя, д. и. н., почетный профессор КГПУ им. В. П. Астафьева
Введение
Слово о Сибири

Сибирь – любовь наша[1]
Земля, на которой мы живем, матушка-Сибирь. С детства мы ощущаем ее суровый нрав, малую обустроенность и неуютность, ее морозное дыхание и нешуточные расстояния. Но, заглянув в сердце, мы чувствуем привязанность к своей округе, району, городу; истую привязанность к удивительной красоте и уникальности сибирской природы.
Настает миг, когда однажды мы, замерев на месте, открываем для себя ширь тайги под горою у своих ног или ландшафт речной долины, безбрежную холмистость сибирской степи или горную гряду за полями и лесами со сверкающими даже летом снежными вершинами саянских пиков на горизонте. Приходит осознание ценностей старинных сибирских обрядов и верований. Мы однажды замечаем, что непроизвольно и ныне употребляем в разговоре слова и выражения старинного сибирского говора.
Оглянувшись, мы видим вокруг себя искусно срубленные и украшенные деревянные дома, не похожие друг на друга. Это не те дома, что строятся нынешними плотниками и быстро приходят в ветхость. Старинные дома прочны и многое могут рассказать об их хозяевах: трудолюбив ли он был и рачителен, аккуратен и основателен или, наоборот, лень надолго селилась в этом хозяйстве.
Мы – сибиряки
С детства мы знаем, что мы сибиряки. Но только попав в далекие российские края, мы с гордостью осознаем, что о сибиряках везде и всегда говорили с особым почтением. Жители далеких городов глядят на нас с удивлением и любопытством – мол, как вы живете в вашем суровом краю? Не секрет, что до сих пор многие верят – по улицам сибирских городов бродят по ночам медведи.
Вдали от родного дома, общаясь с норильчанами и тобольцами, иркутянами и новосибирцами, забайкальцами и томичами, алтайцами и омичами, особенно остро начинаем чувствовать, что мы все земляки. Однако, будучи сибиряками, мы ощущаем себя россиянами, гражданами великой страны с уникальным историческим прошлым. Именно в наших краях встретились и переплелись Запад и Восток, их ценности и идеалы, героические и трагические страницы извечного стремления к воле и опыт строительства демократии в условиях вековой деспотии.
Сибирь, огромная территория Евразии, издревле является «срединной землей», стыком западной и восточной цивилизаций. Это территория, где сталкивались интересы и противоречия, где постоянно изменялась граница соприкосновения земледельческих и кочевых культур, где происходил синтез западно-восточных элементов.
Исторический «котел»
С начала I тысячелетия н. э. Южная Сибирь на многие столетия стала столбовой дорогой Великого переселения народов. Вначале наиболее существенное влияние на историю Евразии оказали гунны. Затем по берегам сибирских рек и Великой степи прокатилась монгольская армия Чингисхана. После распада монгольской империи здесь сложилось государство древних хакасов. На многие века для огромного края наступило время непрерывных военных столкновений и присущий окраинам восточной цивилизации тип традиционного освоения естественных ресурсов. В лесной и таежной зонах господствовал присваивающий тип хозяйства, а в южных степных регионах сохранялось традиционно производящее хозяйство, имевшее скотоводческую направленность и элементы земледелия.
С похода Ермака в 1581 г. начался этап смены типа развития вначале в Западной Сибири, а затем на огромном протяжении азиатского материка до ее восточных окраин. Политическое закрепление российской цивилизации на азиатской части лимитрофа сопровождается утверждением в XVIII–XIX вв. традиционной земледельческой культуры, а на рубеже XIX–XX вв. – и индустриальной.
Результатом взаимодействия цивилизаций Запада и Востока в течение многих веков в конечном итоге явилось образование синтезной российской цивилизации. Именно сложившиеся географические границы Российского государства ограничили полиэтническое, поликонфессиональное, поликультурное содержание территории Сибири.
Население. Начало хозяйства
В начале XX в. доля Сибири в общей площади Российской империи составляла 58 %. Население Сибири при этом составляло всего 6 % от общего числа жителей огромной страны. Из 12,6 млн жителей сибирского края около 1 млн человек проживало в Енисейской губернии. Плотность населения была крайне неравномерной – от 0,01 до 15,5 чел./кв. км.
Присоединение Сибири к России на первых порах не изменило коренным образом специфику использования естественных природных ресурсов. Главным стимулом и наибольшей ценностью в первоначальном освоении сибирского края русскими была пушнина. В XVII в. сибирская пушнина давала от 40 до 80 % всего национального дохода российского государства. Но еще в начале ХХ в. меха из Сибири составляли 44 % всей мировой добычи, или 4/5 всего пушного товарооборота в России.
Сибирское земледелие
Важнейшим изменением в освоении края явилось создание сибирского земледелия. Темпы роста посевных площадей и сбора зерновых в Сибири были всегда выше среднероссийских. Так, на 100 жителей здесь засевалось 84,9, а в среднем по России – 55 десятин пашни. Особенно выигрышным выглядит сравнение урожайности российских и сибирских пашен. Если в середине XIX в. в Европейской России урожайность зерновых была от «сам-2,3» до «сам-3,2», сибирские земли давали от «сам-4,2» до «сам-10» и более. И это в условиях экстремального климата и более короткого лета! К 1917 г. Сибирь (6 % населения России) давала 17 % валового сбора зерна. Быстрыми темпами край превращался в основную житницу страны.
Не менее быстрыми темпами к началу XX в. развивалось сибирское животноводство. В 1913 г. по количеству скота Российская империя занимала второе место в мире после США – 190 млн голов, из них на Сибирь приходилось 20 % всего поголовья скота. В начале XX в. сибирские мясные и молочные продукты стремительно завоевывали внутренний рынок страны: до 50 % всего мяса в Москве завозилось из-за Урала. В крестьянских хозяйствах Сибири разводили до 18 % всех лошадей России, 14 % овец, 12 % свиней (еще раз напомним, что этим занималось 6 % населения страны).
Наиболее впечатляющих результатов в начале XX в. достигло сибирское маслоделие. О высоком качестве масла, производившегося в Степном крае, в Томской и Тобольской губерниях, говорит донесение 1911 г. русского консула в Штеттине: «Сибирское масло, ввозимое в Германию, в чистом виде до покупателя не доходит, а идет на сдабривание местных германских масел или прибывает в „подправленном“ виде из Голландии и Дании». Только в 1913 г. за границу было продано более 4,4 млн пудов сибирского масла, что составляло до 90 % всего экспорта масла из России.
Становление промышленности
Немаловажную роль в обеспечении могущества России в XIX – начале XX века играла золотодобывающая промышленность. К 1910 г. доля сибирского золота составляла 71 %. На сибирских приисках в начале ХХ в. строятся железные дороги, вводится алмазное бурение, зимняя промывка золотосодержащих песков за счет парового оттаивания грунта, действует более 10 приисковых гидроэлектростанций, до 40 золотодобывающих драг.
Потрясающей по своей грандиозности страницей истории Сибири стало строительство железнодорожной магистрали – Великого Сибирского пути. С 1891 по 1911 г. было построено 8 281 км путей. В среднем в год прокладывалось по 685 км. Строили по принципу «строить добротно, чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать».
ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР XIX В. МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ
М. М. Сперанский, великий реформатор начала XIX в., проехав по Сибири до Иркутска, провел серию преобразований, изменивших статус и управление сибирским краем. Он вскрыл величайшие злоупотребления, взяточничество, самодурство чиновников и заслужил уважение сибиряков. Как менялось отношение М. М. Сперанского к Сибири? По мере знакомства с краем столичный чиновник становится сибирским патриотом…
Из Тобольска – дочери: «Воспринимаю эту поездку как наказание. Те же порядки, та же глупость, то же терпение… Различие только в том, что здесь, говоря вообще, всем жить хорошо и, следовательно, бедных менее_ Смею утверждать, что Сибирь есть просто Сибирь, то есть прекрасное место для ссыльных, выгодное для торговли, любопытное и богатое для минералогии, но не место для жизни и высшего гражданского образования, для устроения собственности… основанной на хлебопашестве, фабриках…»
Из Томска – дочери: «Здесь прекрасные земли, которые дают сряду 10 и 15 урожаев^ опрятность в жизни крестьян. Томская губерния по богатству, произведениям и климату, весьма умеренному, могла бы быть одной из лучших губерний России…»
Из Красноярска: «Почти беспрерывно встречаются богатые селения. У старожилов отличный, но здесь не редкий, нрав… Вообще, кто хочет видеть старую Святую Русь, тот должен путешествовать в сих местах^ Нравы отменные, чистые и простые. В течение 6 лет здесь, в Енисейске, не было ни одного подсудимого в уездном суде из всех обывателей уезда… Весь путь от Канского уезда до Красноярска есть сад…»
С юга Сибири: «Этот край один из самых благословенных не только в Сибири, но и в целой России…»
По завершении поездки, через несколько лет, М. М. Сперанский напишет: «Во всех случаях Сибирь будет всегда любимым предметом участия и попечения. Мысль о Сибири всегда будет со мною. Сибирь есть страна донкихотов».
ОТКУДА ПОШЛО НАЗВАНИЕ – ТОПОНИМ «СИБИРЬ»?
Впервые Сибирь упоминается в русской летописи 1407 г. об убийстве хана Тохтамыша в «Сибирской земле». «Архангельская летопись» 1483 г. свидетельствует, что по восточным склонам Урала, вплоть до Иртыша, лежала Югорская страна. А на юго-запад от Югры, за Тюменью, была «земля Сибирская».
Версия первая – тюркская
На месте современного Тобольска когда-то жил народ сипыров (сиверов/сабиров), являвшийся родственным древним уграм. Косвенным подтверждением является наличие у ханты и манси таких фамилий, как Сабиров, Савиров, Себуров, Сабарев, но документальных подтверждений никаких найдено не было. По версии З. Я. Бояршиновой, этот термин происходит от названия этнической группы «сипыр», языковая принадлежность которой носит спорный характер. Позднее он стал применяться к тюркоязычной группе, жившей по р. Иртыш в районе современного Тобольска. По версии С. К. Патканова, корни народа сипыров – в народе сяньби, племени кочевников, проживавших во Внутренней Монголии, но в I–II вв. н. э. под натиском хунну они ассимилировались с местным населением Прииртышья. По версии В. Софронова, от тюркоязычной этнической группы, сейчас известной как сибирские татары, самоназвание которых сабыр, по мнению автора версии, фактически означает «терпение». Есть и другое мнение, «местные» (ы/ир – мужчины, народ, люди; сибэ/у – россыпь, бросить на землю; досл.: «рассеянные [живущие] тут люди»).
Версия вторая – татарская
«Сибэр/чибэр» – тюркское (башкиры/татары) слово, означающее «красивое». У древних тюрок, к примеру, было распространено имя Шибир, как-то знаменитый тюркский каган VII века нашей эры – Шибир-хан Тюрк-шад, уничтоживший китайскую династию Суй. Также в тюркских языках (в частности, в татарском языке) имеется слово «Себер(ү)», означающее «мести», «метель (поземка)», таким образом, название «Сибирь» дословно может означать «Метель». Таким образом, территория Сибири, согласно этой версии, была краем метелей.
Версия третья – монголо-бурятская (древнетюркская)
«Шибир» – монгольское слово, означающее болотистую местность, поросшую березами, лесную чащу. Предполагается, что так во времена Чингисхана монголы называли пограничную с лесостепью часть тайги. Также отправной точкой служит разбор названий забайкальских Улан-шибири и Хара-шибири, в переводе значащих «красное болото» и «черное болото» соответственно. Утверждается, что «сибери» по-монгольски значит «страна лесов», а «шибир» – болото. Однако такой перевод ближе к древнетюркскому. Вот только могло ли влияние бурятов распространиться так далеко на запад?
Версия четвертая – персонально ханская
Одна из наиболее распространенных гипотез гласит, что «Сибирь» – это название города, основанного ханом Мухаммедом на завоеванных им территориях у р. Иртыш. Но само основание города, татарское название которого Искер, произошло в XVI столетии, а упоминания в русских летописях относятся к концу, а то и к началу XV в.
Версия пятая, персидская
Историк XVII века Абульгази употребляет топоним «Туран». Однако Абульгази пишет: «Известны две области Абир и Сабир, страна кыргызов близка к ним». Ясность вносит «Сокровенное сказание монголов», где сказано, что в Год зайца (1207 год) войска монголов покорили все «лесные народы», в том числе народ шибир (sibir), который обитал к северу от Алтая. Таким образом, земли Абир и Сабир локализуются в центральной части Западной Сибири. Названия областей Абир и Сабир, исказившись до «Сибир» («Шибэр»), обозначали территорию Обь-Иртышского междуречья, входившую в состав улуса Джучи («Золотая Орда»).
Версия шестая – испанская
Каталонский атлас 1375 года упоминает Sebur раньше даже русской летописи 1410 г., называя ее сибирскими горами, где начинается река Едиль, и страной, которая находится севернее торговых путей и ограничена с юга горами. Если принять, что горы – это Алтай, а река – Иртыш или Обь, то географически это вполне соответствует рассматриваемым территориям.
Версия седьмая – английская
Наиболее неправдоподобной выглядит версия об английском происхождении слова «Сибирь» от sea (море) и bear (медведь). Это противоречит всем временным рамкам, не могли же англичане знать о территориях за Уралом раньше русских.
Версия восьмая – китайская
Не удается возвести название «Сибирь» и к китайскому «северо-запад» (xīběi, 西北). Северо-западными территориями китайцы называли земли енисейских кыргызов (хягяз-хакасов). Про Обь-Иртышье их летописи молчат.
Версия девятая – русская
Есть гипотеза о происхождении топонима «Сибирь» от русского «север», искаженного тюркскими племенами на свой манер. Но тогда еще более странным видится то, что эти племена слово это не употребляли. Гипотеза, что слово «Сибирь» обозначает сторону света и возникло от русского «север», не выдерживает никакой критики…
https://orfographia.ru/etimologiya-slova-sibir
Общая доля промышленной продукции Сибири к 1914 г. составляла 22 %; здесь производится до 10 % всего сельскохозяйственного инвентаря и машин России. Потрясает уровень производительности труда: доля Сибири в общем количестве рабочих составляла всего 1 %, но они производили 3,5 % всех промышленных ценностей Российской империи! На одно крестьянское хозяйство здесь приходилось в два раза больше, чем в Европейской России, жаток, молотилок, сенокосилок, жнеек.



