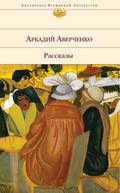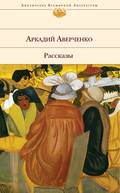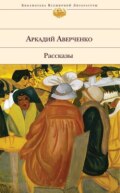Аркадий Аверченко
Юмористические рассказы
Драма в семье Бырдиных
В богатых апартаментах графа Бырдина раздался болезненный стон.
С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф, и его взгляд – взгляд помешанного – блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.
– Да, это так, – глухо произнес он. – Сомнений быть не может!
Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.
* * *
Графиня Бырдина – красавица роскошного телосложения – лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке, из французского быта.
Ее высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием, белые полные руки соперничали нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, a волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.
Вот какова была графиня Бырдина!
* * *
Как вихрь ворвался несчастный граф в будуар жены.
– Полюбуйтесь! – со стоном произнес граф (они не забывались, даже когда были с глазу на глаз, и называли друг друга всегда на «вы»). – Полюбуйтесь. Читали?!
– Что такое? – привстала встревоженная графиня. – Какое-нибудь несчастье?
– Да уж… счастьем назвать это трудно! – горько произнес граф.
Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место:
– «В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды».
Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом.
Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно…
С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный, достойный резца Праксителя стан, и замер этот взор на высокой волнующейся груди.
И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошенная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, перешли на «ты».
– Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не виновата!! О, не покидай меня!
Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.
– О, не гляди так! – простонала графиня… – Ну, хочешь, уйдем от света! Я последую за тобой куда угодно.
– Ха-ха-ха! – болезненно рассмеялся граф. – «Куда угодно»… Но ведь и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя нашей жизни. О боже! Как тяжело!!
– Послушай… – робко прошептала графиня. – А может быть, все обойдется…
– Обойдется? – сардонически усмехнулся граф. – Скажи: считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?
– О, да! – вырвалось у графини.
– Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку, в самом начале сезона уже вышедшую из моды, как шляпка на голове свояченицы устьсысольского околоточного?! Что вы на это скажете, графиня?
– О, не презирай меня, – зарыдала графиня. – Я постараюсь, я… я сделаю все, чтобы похудеть…
Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара.
* * *
Заведующая «институтом красоты» встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное расстроенное лицо.
– Граф! – вскричала она. – Ваша супруга…
– Увы! – глухо произнес граф.
Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляюще руки, простонал:
– Вы! На вас вся надежда! Помогите…
После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг заведующая «институтом» вздохнула и решительно произнесла:
– Выход один: вашей жене нужно похудеть.
– Но как? Как?
– Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать…
– Хорошо, – произнес граф, и мучительная, страдальческая складка залегла на челе его. – Будет исполнено. Я люблю ее, но… будет исполнено!
* * *
В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и безо всяких предисловий начал:
– Подвинься, чего тут разлеглась!
– Граф! – кротко сказала жена. – Опомнитесь!..
– Я уже сорок лет как граф, – сурово прорычал граф. – Но до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов.
Графиня тихо заплакала.
– Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать, a не висеть на шее у мужа.
– Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч годового дохода… зачем же мне работать?
– Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.
– Граф?!!..
– Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так перестанешь хныкать.
Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал:
– Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово… не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-хо!
– Граф!!
– Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать пить, a вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь-то ртов – все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят! Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!
Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание.
– О, моя бедная! О, моя любимая, – шептали его побледневшие уста. – Для нашего общего блага делаю я это.
Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.
* * *
Точно тень, бродила бледная похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но войти боялась…
Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел.
– Григорий, барин у себя?
– А черт его знает, – отвечал Григорий, сплевывая на ковер. – Что я, сторож ему, что ли?
– Григорий! Вы пьяны?
– Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Видали мы таких! Почище даже видали.
– Ульян! Степан! Дорофей! возьмите Григория – он пьян.
– Сдурели вы, что ли, матушка, – наставительно сказал старый, с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гостиную. – Кричит тут сама не знает чего. Нечего тут болтаться, вишь, человек работает! Ступай себе в будувар, пока не попало.
Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.
– Это еще что такое?! – взревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье. – Вон отсюда!! Всякие тут еще будут ходить. Пошла, пошла, ведьма киевская!
И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам…
Он писал:
«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин».
«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».
– Хорошие они обе, – печально прошептал граф. – Обе хорошие – и баронесса, и княгиня. – Но что же делать, если в них пудов по пяти слишком.
А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу.
– Скелетик мой, – нежно прошептал он.
* * *
Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.
Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные, роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала…
Строки гласили:
«Как быстро меняется в наше время всесильная царица-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин – и что же! Только три месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Avе, modеs еt robеs для полных женщин!!»
– Все погибло! – простонал граф. – Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгине, a они были бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет ее прекрасное пышное тело… Увы мне! Поправить все? Но как? До сезона осталось две недели… Что скажут?!
Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро отточенную бритву…
* * *
Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла?
Графское это хрипение, графская кровь, графские руки… И недаром поэт писал: «Погиб поэт, невольник чести»… Спи спокойно!
* * *
На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным валаньсеном, a сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что не модная.
* * *
Кладбище мирно дремлет… Тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками: дурак ты, мол, дурак!..
Отчаянный человек
I
…Поезд тронулся.
Мы поместились трое в ряд на мягком вагонном диване: я у окна, мой приятель Незапяткин посредине, а по правую его руку – какой-то неизвестный нам человек, с быстрыми черными глазами, потонувшими в темно-синих впадинах.
Одет он был в черный сюртук, a на шее было намотано такой неимоверной длины кашне, что шея, голова и плечи напоминали гигантскую катушку ниток.
Едва поезд тронулся, как я вынул из кармана журнал и, примостившись поближе к окну, погрузился в чтение.
– Как мы мало заботимся о своем здоровье, – заметил вдруг незнакомец, обернувшись ко мне с самым приветливым видом.
– А что?
– Да вот, например, вы читаете… Знаете ли вы, что чтение в вагоне поезда, находящегося в движении, – гибель для глаз.
– Ну, уж и гибель!
– Вот, вот! Все вы, господа, так рассуждаете… Мне говорил один немецкий ученый профессор, что чтение в вагоне – это яд для человеческого глаза. Лучше, говорил он, сразу взять и выжечь свои глаза кислотой, чем губить их в несколько приемов. Ужас!
– Да в чем же тут вред?
– А как же. Как вам известно, хрусталик глаза состоит из светлой бесцветной жидкости, находящейся в особом резервуаре. И вот если вы напрягаете хрусталик, то находящаяся в нем жидкость в связи с колебательными движениями вагона начинает постепенно высыхать… А в связи с этим высыханием начинает съеживаться и коробиться резервуар; яблоко глаза делается не круглым, упругим и плотным, как теперь, a вялым и мягким, будто бурдюк, из которого вылили вино. И вот однажды утром вы просыпаетесь и – простите за дешевый каламбур – вдруг видите, что ничего не видите. Вот вы сейчас, например, ощущаете некоторую сухость в глазу?
– Да… Как будто… Немножко.
– Ну, вот!.. Начинается… Извольте видеть.
Он замолчал. Я быстро перелистал журнал, сразу увидел, что чтение там было неинтересное, и поэтому, свернув его в трубку, положил на верхнюю полочку.
– Разрешите мне посмотреть ваш журнал, – попросил незнакомец.
– Пожалуйста! Только почему вы-то будете портить себе глаза?
– Ах, я в этом отношении совершеннейший безумец. Так расстраивать себе здоровье, как я, может только самоубийца. Однажды мне дали кокаин, и что же! Я стал его глотать чуть не чайными ложками. В Самаре я купался прошлым летом в проруби, a в Петрограде мне случалось пользоваться папиросами, вынутыми из кармана умершего чумного.
Незапяткин всплеснул руками.
– Господи, какой ужас! Кровь холодеет.
– Еще бы. Конечно, есть опасности явные и есть тайные. Вот, например, вы сидите у окна. Знаете ли вы, что сквозь невидимые простым глазом щели в раме все время тянет тоненький, как комариное жало, сквозняк, который, как стальная иголочка, впивается в легкие. Легочные пузырьки, охлаждаясь, лопаются, появляются сгустки, кровохарканье и…
– Что ж делать, – с бледной, неискусно сделанной улыбкой возразил я. – Кому-нибудь, все равно, приходится сидеть у окна.
– Да давайте я сяду, – простым тоном, каким вообще говорятся геройские вещи, – сказал незнакомец.
– Однако ваши легкие…
– Э! Мне ли жалеть их… Однажды в Константинополе я два дня пробродил во время жестоких морозов в одном пиджачке. В Астрахани познакомился с одним заклинателем змей… Ну да чего там говорить! Идите на мое место.
Мы пересели.
– Ну, знаете, – покачивая головой в такт движению вагона и обращаясь к незнакомцу, заметил Незапяткин. – Он мой приятель, я знаю его с детства, люблю его, но и я бы не стал так рисковать своей шкурой за другого.
– Э! Стоит ли говорить об этом, – махнул рукой незнакомец.
Подсел поближе к окну, развернул мой журнал и погрузился в чтение.
II
Езда в вагоне без чтения – очень скучная штука. Незнакомец читал, a мы с Незапяткиным клевали носом, изредка перебрасываясь ленивыми отрывочными фразами.
– Когда будем в Тифлисе?
– Э! Еще не скоро.
– Время-то как тянется.
– Да уж.
– Душно в вагоне.
– Да.
– Всюду зима, a тут весна.
– Это верно.
– Смотри, какие деревья.
– Да. Большие.
Дочитав журнал, незнакомец вернул его мне, зевнул и сладко потянулся.
– Эх, поспать бы теперь!..
Он посмотрел на Незапяткина и сказал:
– Это самая подлая дорога в России.
– Почему?
– Почти каждый день столкновения поездов.
– Что вы говорите! Почему же в газетах не пишут?
– Скрывают. Вы сами понимаете… Гм! Да. Сколько жертв!
– Жуткая вещь! – заметил Незапяткин, с тревогой поглядывая на меня.
– А еще бы!
– Самое скверное то, – сказал незнакомец, – что вагоны понастроены этакими закоулочками. Вот так, как мы сидим, – случись столкновение – пиши пропало!
– Почему?
– А как же! Смотрите: наши коленки почти упираются в стенку вагона. Представьте себе, на нас налетел поезд! Сейчас же стена соседнего вагона хлопает по нашей стене, a наша стена по нашим собственным коленям. Давление в несколько сот атмосфер.
– А что же… случится? – тихо спросил Незапяткин, поглядывая на стенку вагона широко открытыми глазами.
– Как что? Ноги ваши от удара моментально вонзаются в ваш живот, выдавливают оттуда печень, кишки, и вы складываетесь, как подзорная труба. Да-с, знаете… Неприятно почувствовать собственную берцовую кость в том месте, где определено природой быть только легким и сердцу.
Мы, подавленные, молчали.
– Таз, конечно, вдребезги. В куски. И самое ужасное, что с этого рода увечьями живут еще по три, четыре дня.
– Ну, a предположим, – спросил Незапяткин, – если пассажир в момент столкновения стоял в коридоре? Опасность для него такая же?
– Ничего подобного. Вы сами понимаете, что опасны не боковые стенки, a передняя и задняя. Я знал в Новоузенске одного человека, который, единственный из сотни, остался жив только потому, что бродил во время крушения по коридору вагона. Семенов его фамилия. Электротехник.
Мы с Незапяткиным молча поглядели друг другу в глаза и без слов поняли один другого.
Посидели для приличия еще минуты три, a потом я сказал:
– Совсем нога затекла. Пройтись, что ли.
– И я, – вскочил Незапяткин. – Пойдем покурим.
III
Когда мы вышли в коридор, Незапяткин сказал, подмигнув:
– А ловко я это насчет курения ввернул. Так-то просто – было неудобно выйти. Он мог бы подумать: трусы, мол. Испугались. Верно?
– Конечно.
– А у него, однако, дьявольские нервы. Действительно, сознавать, что каждую минуту тебя может исковеркать, зажать, как торговую книгу в копировальном прессе, – и в то же время хладнокровно рассуждать об этом.
– Посмотри-ка, что он делает?
Незапяткин пошел взглянуть на нашего сумасброда и, вернувшись, доложил:
– Лежит чивой-то на диване с закрытыми глазами.
– Давай станем тут. Ближе к средине.
– А симпатичный он. Верно?
– Да. Милый. Такой… предупредительный.
Чем дальше, тем душнее было в вагоне. Чувствовалось приближение юга.
– Что, если мы откроем окно? – прервал я. – В степи такая теплынь.
– Не открываются окна. Вагон еще на зимнем положении.
– Постой… А вот это окно! У него, кажется, эта задвижка еле держится. Ну-ка, потяни.
– Ножичком бы. Не увидит никто?
– Ничего. Потом скажем, что нечаянно.
Рама с легким стуком упала – и нам в лицо пахнула сладкая прохлада напоенной ранними весенними ароматами степи.
– Какой воздух! Чувствуешь? Вот что значит Кавказ!
– Бальзам!
Мощные горы рисовались вдали легкими туманно-голубыми призраками. Лаской веяло от теплого воздуха и жирной пахучей земли.
…Часа два простояли мы так, почти не разговаривая, разнеженные, задумчивые. Сзади нас раздался голос:
– Что это вы тут делаете?
Наш сосед по дивану стоял за моей спиной.
– Чувствуете, какой воздух? – спросил я.
– Да. Попробую-ка и я открыть другое окошечко.
– Нет, – возразил Незапяткин. – Все окна заделаны по зимнему положению. Это единственное.
– Вот он, Кавказ-то! – задумчиво заметил незнакомец. – Красивый, экзотический, как змея-пифон, но и ядовитый, как эта змея! Так же могущий ужалить.
– Почему?
– Кавказ-то? Ведь это разбойничья страна. Вот вы, например, стоите у окна, тихо беседуете, и вдруг из-за того камня – бац! Пуля в висок, и вы без крика валитесь на пол.
– Кто же это… может?
– Ясно как день: туземцы. Да вот вчера в газетах… не читали газет?
– Нет.
– Ну, как же. Таким точно образом стоял еврей, настройщик роялей, у открытого окна. «Свежим воздухом дышал…» Бац! И не пикнул. Айзенштук фамилия.
– Да за что же, господи!
– Абреки. Это у них молодечество. Кто больше пассажиров настреляет, тот большим уважением в ауле пользуется. Кто меньше десятка уложил, за того ни одна девушка замуж не пойдет.
– Черт знает что! Закроем окно, Незапяткин.
– А позвольте-ка, я рискну, – хладнокровно сказал незнакомец, облокачиваясь на узенький подоконник. – Послушайте… если меня тяпнет пуля… возьмите мои вещи и отошлите в Тифлис на Головинский проспект, 11 – Михайленко.
Никогда я до сих пор не видел, чтобы завещания составлялись с таким самообладанием и быстротой.
Для очистки совести мы попытались уговорить нашего сумасброда отойти от рокового окна, но он был непреклонен.