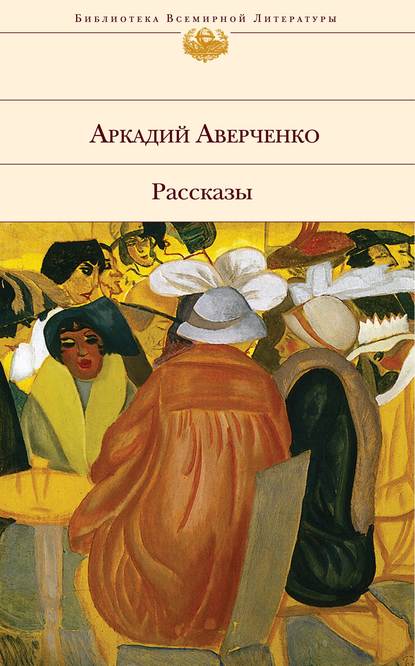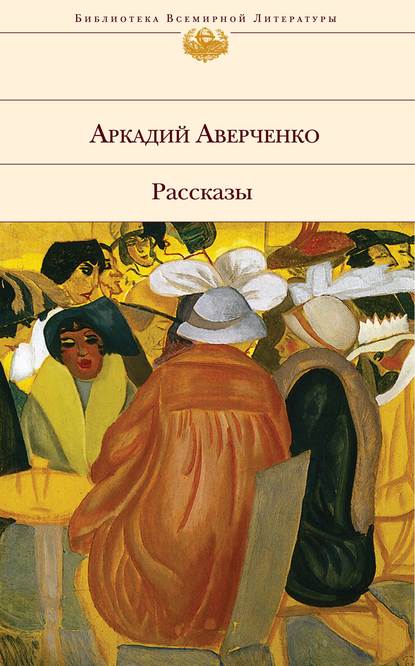 Полная версия
Полная версия- Рейтинг Литрес:4.6
- Рейтинг Livelib:3
Полная версия:
Аркадий Тимофеевич Аверченко Буржуазная Пасха
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Аркадий Аверченко
Буржуазная Пасха
I
Трое бездельников проснулись на своих узких постелях по очереди… Сначала толстый Клинков, на нос которого упал горячий луч солнца, раскрыл рот и чихнул так громко, что гитара на стене загудела в тон и гудела до тех пор, пока спавший под ней Подходцев не раскрыл заспанных глаз.
– Кой черт играет по утрам на гитаре? – спросил он недовольно. Его голос разбудил спавшего на диване третьего бездельника – Громова.
– Что это за разговоры, черт возьми, – закричал он. – Дадите вы мне спать или нет?
– Это Подходцев, – сказал Клинков. – Все время тут разговаривает.
– Да что ему надо?
– Он уверяет, что ты недалекий парень.
– Верно, – пробурчал Громов, – настолько я недалек, что могу запустить в него ботинком.
Так он и поступил.
– А ты и поверил? – вскричал Подходцев, прячась под одеяло. – Это Клинков о тебе такого мнения, а не я.
– Для Клинкова есть другой ботинок, – возразил Громов. – Получай, Клинище!
– А теперь, когда ты уже расшвырял ботинки, я скажу тебе правду: ты не недалекий человек, а просто кретин.
– Нет, это не я кретин, а ты, – сказал Громов, не подкрепляя, однако, своего мнения никакими доказательствами…
– Однако, вы тонко изучили друг друга, – хрипло рассмеялся толстяк Климов, который всегда стремился стравить двух друзей и потом любовался издали на их препирательства. – Оба кретины. У людей знакомые бывают на крестинах, а у нас на кретинах. Хо-хо-хо! Подходцев, если у тебя есть карандаш, – запиши этот каламбур. За него в журнале кое-что дадут.
– По тумаку за строчку – самый приличный гонорар. Чего это колокола так раззвонились? Пожар, что ли?
– Грязное невежество: не пожар, а Страстная суббота. Завтра, милые мои, Светлое Христово воскресенье. Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно запроданы дьяволу, а моей душеньке тоскливо и грустно, ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги. О, мама, мама! Далеко ты сейчас со своими куличами, крашеными яйцами и жареным барашком. Бедная женщина!
– Действительно, бедная, – вздохнул Подходцев. – Ей не повезло в детях.
– А что, миленькие: хорошая вещь – детство. Помню я, как меня наряжали в голубую рубашечку, бархатные панталоны и вели к Плащанице. Постился, говел… Потом ходили святить куличи. Удивительное чувство, когда священник впервые скажет: «Христос Воскресе!»
– Не расстраивай меня, – простонал Громов, – а то я заплачу.
– Разве вы люди? Вы свиньи. Живем мы, как черт знает что, а вам и горюшка мало. В вас нет стремления к лучшей жизни, к чистой, уютной обстановке, – нет в вас этого. Когда я жил у мамы, помню чистые скатерти, серебро на столе.
– Ну, если ты там вертелся близко, то на другой день суп и жаркое ели ломбардными квитанциями.
– Врете, я чистый, порядочный юноша. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей. С куличами, с накрытым столом и со всей, вообще, празднично-буржуазной, уютной обстановкой.
– У нас из буржуазной обстановки есть всего одна вилка. Много ли в ней уюта?
– Ничего, главное – стол. Покрасим яйца, испечем куличи…
– А ты умеешь?
– По книжке можно. У нас две ножки шкафа подперты толстой поваренной книгой.
– Здорово удумано, – крякнул Подходцев. – В конце концов, что мы не такие люди, как все, что ли?
– Даже гораздо лучше.
II
Луч солнца освещал следующую картину: Подходцев и Громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки, чуть не доверху, – и ожесточенно спорили.
Сбоку стояла корзина с яйцами, лежал кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики.
– Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги, – кричал Громов, потрясая поваренной книгой. – Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она – растение.
– Сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, а препарат.
– Препарат чего?
– Препарат ванили.
– Так… Ваниль – препарат ванили. Подходцев – препарат Подходцева. Голова твоя препарат телячьей головы…
– Нет, ты не кричи, а объясни мне вот что: почему я должен сначала «взять лучшей крупитчатой муки 3 фунта, развести 4-мя стаканами кипяченого молока», проделать с этими 3-мя фунтами тысячу разных вещей, а потом, по словам самоучителя, «когда тесто поднимается, добавить еще полтора фунта муки»? Почему не сразу 4 1/2 фунта?
– Раз сказано, значит, так надо.
– Извини, пожалуйста, если ты так туп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков! Я оставляю за собой право критики.
– Да что ты, кухарка, что ли?
– Я не кухарка, но логически мыслить могу. Затем – что значит, «30 желтков растертых добела»? Желток есть желток, и его, в крайнем случае, можно растереть дожелта.
Громов подумал и потом высказал робкое, нерешительное предположение:
– Может, тут ошибка? Не «растертые» добела, а «раскаленные» добела?
– Знаешь, ты, по-моему, выше Юлия Цезаря по своему положению. Того убил Брут, а тебя сам Бог убил. Ты должен отойти куда-нибудь в уголок и там гордиться. Раскаленные желтки! А почему тут сказано о растопленном, но остывшем сливочном масле? Где смысл, где логика? Понимать ли это в том смысле, что оно жидкое, но холодное или что оно должно затвердеть? Тогда зачем его растапливать. Боже, боже, как это все странно!
Дверь скрипнула в тот самый момент, когда Громов, раздраженный туманностью поваренной книги, вырвал из нее лист «о куличах» и бросил его в кадочку с мукой.
– На! теперь это все перемешай!
…Дверь скрипнула и на пороге появился смущенный Клинков. Не входя в комнату и пытаясь заслонить своей широкой фигурой что-то, прятавшееся сзади него и увенчанное красными перьями, – он разочарованно пролепетал:
– Как… вы уже вернулись? А я думал, что вы еще часок прошатаетесь по рынку.
– А что? Да входи… Чего ты боишься?
– Да уж лучше я не войду…
– Да почему же?
За спиной Клинкова раздался смех и красные перья закачались.
– Вот видишь, – сказал женский голос. – Я тебе говорила – не надо. Такой день нынче, а ты пристал – пойдем да пойдем!.. Ей-богу, бесстыдник.
– Клинков, Клинков, – укоризненно воскликнул Подходцев. – Когда же ты, наконец, перестанешь распутничать? Сам же затеял это пасхальное торжество и сам же среди бела дня приводишь жрицу свободной любви…
– Нашли жрицу, – сказала женщина, входя в комнату и осматриваясь. – Со вчерашнего дня жрать было нечего.
– Браво! – закричал Клинков, желая рассеять общее недовольство. – Она тоже каламбурит!! Подходцев, запиши – продадим.
– У человека нет ничего святого, – сурово сказал Громов. – Сударыня, нечего делать, присядьте, отдохните, если вы никуда не спешите.
– Господи! Куда же мне спешить, – улыбнулась эта легкомысленная девица. – Куда, спрашивается, спешить, если меня хозяйка вчера совсем из квартиры выставила.
– Весна – сезон выставок, – сострил Клинков, снимая пальто. – Подходцев, запиши. Я разорю этим лучшую редакцию столицы. Ах, как мне жаль, Маруся, что я не могу оказать вам того гостеприимства, на которое вы рассчитывали.
– Уйдите вы, – сердито сказала Маруся, нерешительно присаживаясь на кровать. – Ни на что я не рассчитывала. Отдохну и пойду.
Взгляд ее упал на кадочку с мукой, и она широко раскрыла глаза.
– Ой! Это что вы, господа, делаете?
– Куличи, – серьезно ответил Громов, поднимая измазанное мукой лицо. – Только у нас, знаете ли, не ладится…
– Видишь ли, Маруся, – важно заявил Клинков. – Мы решили отпраздновать праздник Святой Пасхи по-настоящему. Мы – буржуи!
Маруся встала, осмотрела кадочку и сказала чрезвычайно озабоченно:
– Эх вы! Кто ж так куличи делает. Высыпайте обратно муку. Хотите, я вам замешу?
Громов удивился.
– Да разве вы умеете?..
– Вот тебе раз! Да как же не уметь!
– Уважаемая достойная Маруся, – обрадовался совершенно измученный загадочностью поварской книги Подходцев. – Вы нас чрезвычайно обяжете…
Увидев такой оборот дела, сконфуженный сначала Клинков принял теперь очень нахальный вид. Заложил руки в карманы и процедил сквозь зубы:
– Теперь вы, господа, понимаете, для чего я ее привел?
– Лучше молчи, пока я тебя не ударил по голове этой лопаткой. По распущенности ты превзошел Гелиогабала!
– Да, пожалуй… – подтвердил самодовольно Клинков. – Во мне сидит римлянин времен упадка.
– Нечего сказать, хорошенькое помещение он себе выбрал. Разведи-ка в этой баночке краску для яиц.
Римлянин времен упадка покорно взял пакетики с краской и отошел в угол, а Подходцев и Громов, предоставив гостье все куличные припасы, стали суетиться около стола.
– Накроем пока стол. Скатерть чистая есть?
– Вот есть… Какая-то черная. Только на ней, к сожалению, маленькое белое пятно.
– Милый мой, ты смотришь на эту вещь негативно. Это белая скатерть, но сплошь залитая чернилами, кроме этого белого места. И, конечно, залил ее Клинков. Он всюду постарается.
– Да уж, – отозвался из-за угла Клинков, поймавший только последнюю фразу. – Я всегда стараюсь. Я старательный. А вы всегда на меня кричите. Вон Марусю привел. Маруся, поцелуй меня.
– Уйди, уйди, не лезь. Заберите его от меня, или я его вымажу тестом.
Вдруг Подходцев застонал.
– Эх, черррт! Сломался!
– Что?
– Ключ от сардинок. Я попробовал открыть.
– Значит, пропала коробка, – ахнул Громов. – Теперь уж ничего не сделаешь. Помнишь, у нас тоже этак сломался ключ… Мы пробовали открыть ногтями, потом стучали по коробке каблуками, бросали на пол, думая, что она разобьется. Исковеркали – так и пропала коробка…
– И глупо, – отозвался Клинков. – Я тогда же предлагал подложить ее на рельсы, под колесо трамвая. В этих случаях самое верное – трамвай.
– Давайте, я открою, – сказала озабоченная Маруся, отрываясь от теста.
– Видите, какая она у меня умница, – вскричал Клинков. – Я знал, что с сардинами что-нибудь случится и привел ее.
– Отстань! Подходцев, режь колбасу. Знаешь, можно ее этакой звездочкой разложить. Красиво!
– Ножа нет, – сказал Подходцев.
– Можно без ножа, – посоветовал Клинков. – Взять просто откусить кусок и выплюнуть, откусить и выплюнуть. Так и нарежем.
– Ничего другого не остается. Кто же этим займется?
Клинков категорически заявил:
– Конечно, я.
– Почему же ты, – поморщился Подходцев. – Уж лучше я.
– Или я!
– Неужели, у вас нет ножа? – удивилась Маруся.
– Был прекрасный нож. Но пришел этот мошенник Харченко и взял его якобы для того, чтобы убить свою любовницу, которая ему изменяла. Любовницы не убил, а просто замошенничал ножик.
– И штопор был; и штопора нет.
– Где же он?
– Неужели ты не знаешь? Клинков погубил штопор; ему, после обильных возлияний, пришла на улице в голову мысль: откупорить земной шар.
– Вот свинья-то. Как же он это сделал?
– Вынул штопор и стал ввинчивать в деревянную тротуарную тумбу. Это, говорит, пробка, и я, говорит, откупорю земной шар.
– Неужели я это сделал? – с сомнением спросил Клинков.
– Конечно. На прошлой неделе. Уж я не говорю о рюмках – все перебиты. И перебил Клинков.
– Все я да я… Впрочем, братцы, обо мне не думайте: я буду пить из чернильницы.
– Нет, чернильница моя, – ты можешь взять себе пепельницу. Или сделай из бумаги трубочку.
III
Маруся с изумлением слушала эти странные разговоры; потом вытерла руки о фартук, сооруженный из наволочки, и, взяв карандаш и бумагу, молча стала писать…
– Каламбур записываешь? – спросил Клинков.
– Я записала тут, что купить надо. Вилок, ножей, штопор, рюмки и тарелки. Покупайте посуду, где брак, – там дешевле… Всего рубля четыре выйдет.
– Дай денег, – обратился Клинков к Подходцеву.
– Что ты, милый? Я последние за муку отдал.
– Ну, ты дай.
– Я тоже все истратил. Да ведь у тебя должны быть?
Клинков смущенно приблизил бумагу к глазам и сказал:
– Едва ли по этой записке отпустят.
– Почему?
– Тарелка через «ять» написана. Потом «периц» через «и». Такого перца ни в одной лавке не найдешь.
– Клинков! – сурово сказал Подходцев. – Ты что-то подозрительно завертелся? Куда ты дел деньги, а?
– Никуда. Вот они. Видишь – пять рублей.
– Так за чем же остановка?
– Видите ли, – смутился Клинков. – Я думаю, что эти деньги… я… должен… отдать… Марусе…
– Мне? – искренно удивилась Маруся. – За что?..
– Ну… ты понимаешь… по справедливости… я же тебя привел… оторвал от дела…
– И верно! – сухо сказал Подходцев. – Отдай ей.
Маруся вдруг засуетилась, сняла с себя фартук, одернула засученные рукава, схватила шляпу и стала надевать ее дрожащими руками.
– До свиданья… я пойду… я не думала, что вы так… А вы… Скверно! Стыдно вам.
– Подходцев дурак и Клинков дурак, – решительно заявил Громов. – Маруся! Мы вас просим остаться. Деньги эти, конечно, пойдут на покупку ножей и прочих тарелок, и я надеюсь, что мы вместе разговеемся; мы с вами куличом, а эти два осла – сеном.
– Ура! – вскричал Клинков. – Дай я тебя поцелую.
– Отстаньте… – улыбнулась сквозь слезы огорченная гостья. – Вы лучше мне покажите, где печь куличи-то.
– О моя путеводная звезда! Конечно, у хозяйки! У нее этакая печь есть, в которой даже нас, трех отроков, можно изжарить. Мэджи! Вашу руку, достойнейшая, – я вас провожу к хозяйке.
Когда они вышли, Громов сказал задумчиво:
– В сущности, очень порядочная девушка.
– Да… А Клинков осел.
– Конечно. Это не мешает ему быть ослом. Как ты думаешь, она не нарушит ансамбля, если мы ее попросим освятить в церкви кулич и потом разговеться с нами?
– Почему же… Ведь ты сам же говорил, что она порядочная девушка.
– А Клинков осел. Верно?
– Клинков, конечно, осел. Смотреть на него противно.
А поздно ночью, когда трое бездельников, язвя, по обыкновению, друг на друга, валялись одетые в кроватях в ожидании свяченого кулича, – кулич пришел под бодрый звон колоколов, кулич, увенчанный розаном и несомый разрумянившейся Марусей, «вторым розаном», как ее галантно назвал Клинков.
Друзья радостно вскочили и бросились к Марусе. Она степенно похристосовалась с торжественно настроенным Подходцевым и Громовым, а с Клинковым отказалась – на том основании, что он не умеет целоваться как следует.
– Да, – хвастливо подмигнул распутный Клинков. – Мои поцелуи не для этого случая. Не для Пасхи-с! Хе-хе! Позвольте хоть ручку.
Желание его было исполнено не только Марусей, но и двумя бездельниками, сунувшими ему под нос свои руки.
Этой шуткой торжественность минуты была немного нарушена, но, когда уселись за стол и чокнулись вином из настоящих стаканов, заедая настоящим свяченым куличом, – снова праздничное настроение воцарилось в комнате, освещенной лучами рассвета.
– Какой шик! – воскликнул Клинков, ощупывая новенькую, накрахмаленную скатерть. – У нас совсем как в приличных буржуазных домах.
– Да… настоящая приличная чопорная семья на четыре персоны!
И все четверо серьезно кивнули головами, упустив из виду, что никогда приличная чопорная семья не допустит сидеть за столом безработную проститутку.