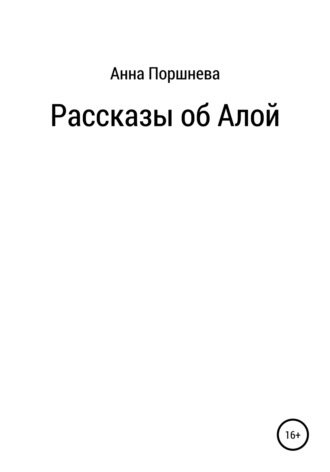
Анна Поршнева
Рассказы об Алой
7. Солнце в крови
Наташа выросла в интеллигентной петербургской семье и получила надлежащее воспитание: английский и французский языки, музыка и семейные походы на лыжах зимой. С самого детства это была замкнутая нелюдимая девочка. Мама ее просто ума не могла приложить, как в их семье могла появиться такая тихоня. Наташа плохо сходилась со сверстниками, шарахалась от парней и любила сидеть вечером на диване с чашкой чая, горстью изюма и романом Вальтера Скотта. Вообще, замечали ли вы, какими странными вырастают те девочки, которые любят в детстве романы Вальтера Скотта и Фенимора Купера? Они как будто ждут, что вот-вот жизнь преподнесет им встречу с настоящим Айвенго, или Квентином Дорвардом, или Натти Бампо. По этой причине они совершенно не замечают обычных Серег и Алексеев, которые то и дело встают на их пути со смехотворными предложениями пойти на дискотеку или в кино. Кстати, вы, конечно, заметили, что события, о которых я пишу, происходили не в наше время. В наше время девушки этого склада, по большей части, обитают в соцсетях, сочиняя фанфики по мотивам "Сумерек" и "Пятидесяти оттенков серого". Но суть у них та же – они лишены собственной жизненной силы, про таких мудрая русская поговорка говорит: "Светит, да не греет". Добавлю от себя, что и свет их не истинный, а отраженный, как у бледной луны.
Впрочем, Наташа была девушка незлая и умненькая и, закончив институт со специальностью переводчика, немедленно засела в каком-то НИИ переводить длинные инструкции к чертежам. И так бы она и переводила инструкции до седых волос, но настал девяносто первый год, институт накрылся медным тазом, волна преобразований подхватила Наташу, протащила по куче каких-то контор, домашних уроков, невыплаченных зарплат и переводов глупейших дамских романов и выбросила на берег в крупной конторе, экспортировавшей металл. Там Наташа в основном занималась однотипными договорами, паспортами сделок да заказами гостиниц и вилл для хозяина конторы, который проводил зиму в Таиланде, лето – на Лазурном берегу, а осенью и весной занимался бизнесом и ездил по делам в туманный Альбион.
Хозяину нравилась исполнительная и безропотная Наташа, так что ничего удивительного нет в том, что он включил ее имя в наградной список по итогам, кажется, 1996 года, и отправил в составе других счастливцев на знойный пляж одной европейской, но южной страны.
Европейской – это очень важно, заметьте себе, милые читатели, что если бы страна была восточной, ничего, о чем я напишу далее, не случилось бы. В восточной стране Наташа и носу бы не высунула с территории отеля, и так бы и вернулась в Санкт-Петербург серой (немного, правда, более смуглой) мышкой.
Надо вам сказать, что моя героиня прежде никакие теплые моря не посещала: родители ее были сторонниками той основательной теории, что рожденным на севере нельзя есть ананасы и заезжать в субтропики. Так что девушка впервые попала в мир, где солнце светит непрестанно, воздух наполнен светом и прозрачен до невозможности, деревья цветут даже в августе, а на лотках у торговцев лежат, нагло выпятив разноцветные бока, персики, апельсины, груши и совсем уже экзотические нектарины, киви и фиги.
По правде сказать, Наташа растерялась. На пляже ей было слишком жарко, тесно и шумно, в первый же день она сожгла нежную кожу на плечах, шее и икрах, и поэтому, купив за небольшие деньги батистовое балахонистое одеяние, принялась, скучая, бродить по набережной. Два километра туда – два километра сюда ежедневно по утрам и вечерам был ее постоянный маршрут, а днем она сидела в номере и смотрела безвкусные, как мексиканский сериал, новостные каналы, CNN и BBC. Ей было скучно, но она утешала себя тем, что, по крайней мере, это полезно и развивает ее навыки понимания разговорной английской речи.
Вы даже не представляете, насколько надоела набережная Наташе к середине ее отпуска! Ей надоели все: и торговцы одеждой, и торговцы игрушками, и торговцы сувенирами, и хозяева ресторанов, зазывавшие на свежую рыбу, и аниматоры, зачем-то совавшие ей в руки приглашения в клубы. Больше всего ее раздражали национальные песни, которые лились непонятным потоком из множества колонок, стоявших на берегу. Особенностью этой эстрады было то, что она словно застряла в периоде молодости Наташиных родителей – в начале семидесятых, и однообразные аранжировки в духе репертуара популярного тогда певца Лещенко выводили из себя бывшую выпускницу с отличием музыкальной школы. Только одна отрада была во всем этом безобразии – прибрежная таверна, название которой девушка перевела, как "Три рыбака", внутри которой всегда стоял чадный запах жарившейся рыбы. Владелец таверны, бородатый плотный дядька, по всей видимости, был приверженцем яркого диско, а в особенности "Бонни М", и бесконечные "Дедди Кул" и "Распутин" перемешанные с донной Самер и Аббой, составляли репертуар его заведения.
Наташа даже приостанавливалась на минуту у красочного меню, чтобы вырваться ненадолго из плена сладкоголосых певцов, жаловавшихся в неповторимой слезливой манере на жестокость своих избранниц. Она даже притоптывала ногой и поводила уже подживавшим после ожогов плечом. И за всем этим наблюдала женщина, которая всегда сидела в таверне на террасе, выходящей к морю, утром – с чашечкой крепчайшего кофе и стаканом воды, днем – с жаренным на углях осьминогом, щедро политым лимонным соком, а вечером – с легчайшим салатом, в заправке которого не было ни капли уксуса и запотевшим бокалом белого вина.
"Да что же это такое, – думала женщина, во внешности которой, по правде говоря, не было ничего выдающегося, – Какого черта?"
И вот в последний вечер, когда Наташа совершала прощальную прогулку по набережной, женщина подошла к стерео-системе и положила на нее нечто совсем неподходящее. Но никто-никто не заметил ни этой вещи, ни исходящего от нее волшебства. Никто, кроме Наташи, потому что в этот вечер начальные аккорды песни про крутого папочку вдруг пронзили ее сердце, как двумя неделями раньше жаркие лучи солнца пронзили ее нежную бледную кожу. Невозможно было устоять – сначала повернулась нога, потом бедра призывно вильнули, потом руки изобразили что-то невероятное, потом обычно опущенные глаза поднялись, и все окружающие увидели в них огонь, настоящий живой огонь. А Наташа уже танцевала, и ее гибкое тело двигалось под невнятным балахоном, по которому пробегали соблазнительные тени, и волосы – а волосы у нее были дивные, чудесного орехового оттенка, густые и мягкие, – летали над головой, как языки пламени, и был ее танец таким энергичным и волнующим, что ему позавидовал бы и неистовый солист "Бонни М".
"Боги мои!, – думала Наташа, – только бы это никогда не кончилось! Но ведь так не может быть. Я вернусь домой, и все станет таким же серым, как было". Она не знала, что раз зажженный, этот огонь уже никто не погасит, и что серое небо Питера только придаст ему ярости.
А на колонке, содрогаясь в такт музыке, лежала никем не замечаемая алая тысячелепестковая роза, благоухавшая слаще всех ароматов Аравии.
8. Добрососедство
Мужчина выгуливал собаку – поджарого холеного добермана – каждый день с 7 до 7-30. И ровно в 7-34 он стоял в холле своего дома, ожидая лифта. Мужчина был уже не молод, но, как и все немолодые мужчины, считал, что он еще в самом соку и будет в этом соку лет десять, не меньше. На самом деле и лицо, и фигура мужчины уже поплыли, теряя строгие очертания, а в глазах навек поселилось то брюзгливое недоверие к окружающим, за которое таких мужчин и считают стариками девушки восемнадцати лет. Кстати, девушка восемнадцати лет никогда не назовет стариком пятидесятилетнего мужчину с горящим глазом. Но, к сожалению, этот вид мужчин встречается редко.
Впрочем, вернемся к моему рассказу. Ровно в 7-34 мужчина стоял в холле своего дома, а в 7-35 в холл этот входила ничем не примечательная женщина под сорок. Если мужчине везло, он успевал уехать раньше. А если не везло, ему приходилось ехать с этой женщиной до 23 этажа. Мужчина жил на 24 этаже в квартире, расположенной как раз над квартирой неприятной ему женщины. То есть они были соседями. То есть от него требовалось поддерживать добрососедские отношения. Мужчина старался изо всех сил. Он заговаривал с женщиной о погоде, о сериалах, о курортах Крыма, о винах Нового Света. Женщина слушала без внимания, изредка вставляла короткие "Да" и "Нет" и не проявляла никакого интереса. Наконец, мужчина заговорил о домашних животных и с удовлетворением узнал, что в доме у женщины живет питомец. Она как-то скупо сказала, что в квартире с животными жить неудобно и повсюду валяется рыжая шерсть, а ночью наглая тварь так и норовит бросится под ноги. "У нее кот" – уверенно заключил мужчина, и ему все сразу стало ясно. Кот – это значит, нет мужчины. И детей нет. Профинтилила всю молодость, а сейчас, небось, лихорадочно ищет себе жертву и утешается мыслью, что родить в тридцать семь еще не поздно.
Мужчина не любил кошатниц и котов и справедливо – как ему казалось – полагал, что те в ответ не любят собачников и собак. Поэтому как-то незаметно он стал посвящать свои беседы уму и расторопности псов. Он припоминал и обстоятельно излагал женщине все истории о собаках, спасших своих хозяев от пожара, воров или землетрясений. Он пел гимны собачьей преданности и догадливости. Однажды он в течение трех дней рассказывал о какой-то мифической лайке, которая храбро бросилась на медведя, и не дала тому задрать своего хозяина – охотника-манси.
Женщина терпеливо слушала и не возражала. "Ну, болтай-болтай" – явственно читал он в ее глазах, – "Бреши, как те собаки". Постепенно мужчина стал испытывать к женщине тупую злость и ненависть. И вот однажды, где-то в районе седьмого этажа, он прервал свой рассказ о верном Хатико и прошипел:
– Что ж это вы все молчите? Ведь я, кажется, интересные вещи рассказываю?
Женщина пожала плечами так, словно хотела сказать: "Вы правы, вам это только кажется".
– А я ведь с собакой, – продолжал, распаляясь, мужчина. – Не ровен час, она ведь укусить может.
И тут женщина неуловимо быстрым движением выбросила вперед правую руку и железной хваткой сдавила мужчине горло прямо под самым кадыком. Одновременно она взглянула на добермана и чуть-чуть оскалила зубы. Пес задрожал и поджал хвост.
"Вампирша", – прозрел мужчина, – "Сейчас вопьется в горло и конец". Женщина, словно услышав его мысли, улыбнулась шире, и он совсем близко увидел ее зубы, зубы хорошо следящей за собой дамы с хорошей генетикой или хорошим стоматологом, ничуть не напоминающие, однако, кривые клыки вампира.
– Не болтай! – строго сказала женщина и отпустила руку. Двери лифта раскрылись, и она вышла на своем этаже, как ни в чем не бывало. Мужчина глянул вниз и увидел, что вокруг его ног образовалась лужица. Кто осрамился – он или доберман – мужчине, честно говоря, было все равно.
А женщина, открыла дверь своей квартиры, бормоча странные слова:
– Еще розу ему! Обойдется без розы, пень замшелый! – В прихожей ее встречала лиса с роскошным рыжим хвостом, которая при виде хозяйки тотчас бросилась ей под ноги и заюлила, обтирая лбом икры женщины. Та улыбнулась, прошла в комнату и включила телевизор. Появившееся изображение заставило ее улыбнуться еще шире. На экране шли титры какого-то классического сериала BBC: роскошная алая тысячелепестковая роза, лежавшая на расшитой шелками скатерти. И тонкий аромат, подобный ароматам райского сада, распространился по комнате.
9. Поражение Алой
Женщина неожиданно расцветает лишь в двух случаях. Лишь в двух случаях у нее розовеют щеки, становится необыкновенно чистой и нежной кожа, хорошеет осанка, а походка становится манящей, словно истекающий соком июльский абрикос. Во-первых, женщина может влюбится и быть любимой в ответ. Во-вторых, она может стать жертвой инкуба. И в том, и в другом случае неожиданная ее красота объясняется тем, что она вынашивает в себе дитя. Только в первом случае это дитя – жизнь, а во втором – смерть.
Сидевший перед Алой горожанин, не богатый, но и не бедный шорник, был совершенно уверен, что с его дочерью приключился как раз второй случай.
– Да как иначе! – горячился он, поминутно вскакивая с дубового табурета и норовя схватить колдунью то за руку, то за плечо, – Как иначе! Девка цветет, а мы все ночи спим. Сколько раз я хотел подкараулить этого пришлеца, и каждый раз одно и то же – чуть закат и я, и сыновья мои, и братья, все валимся, кто где, и засыпаем. А как проснемся – солнце уже давно взошло и Агнета, голубка моя несчастная, уже поет на кухне, вытаскивая свежие лепешки из печи. Веселая, как птичка! Того и не знает, несчастная, что жить ей осталось всего-ничего.
– Ну, это мы еще посмотрим, сколько жить ей осталось. Ты вот что. Ты выпроводи ее куда-нибудь сегодня в четвертом часу дня, а я к тебе зайду и сделаю кой-что. Да, и деньги-то, деньги вперед!
Шорник вздохнул и стал развязывать кошель.
На закате того же дня Алая набрала в большой медный таз, в которых хозяйки обычно варят малиновое и земляничное варенье на зиму, воды из родника, пошуршав на полках, достала пузырек с темно-синей жидкостью и капнула скупо в воду. В воде от капель сразу побежали ультрамариновые ленты, и вскоре вода сияла яркой синевой, точно ясное февральское небо.
А сквозь синеву стали проступать картины небогатого, но и не бедного городского дома. Вот сени, вот, за сенями, большая горница, а вот и девичья светелка. Молодая, красивая девушка причесывала волосы липовым гребнем и напевала что-то под нос. Звуков таз, естественно, не передавал, но Алая умела читать по губам. Агнета пела старинную любовную песню, в которой крестьянка клянется своему дружку, что или будет его женой, или "Пусть омут глубокий покоит меня". Алая хмыкнула и еще раз оглядела дом. Все остальные его обитатели, действительно, спали вповалку, сморенные глубоким сном.
Между тем, кто-то осторожно пробирался между спящими, открылась и затворилась дверь и в светелку к девушке вошел молодой видный парень. Та бросилась ему на грудь и засмеялась.
– Тише ты! – опасливо прошептал парень.
– Да ладно, все спят. Хорошо твое зелье! – И девушка потянула парня к постели.
– Ну, тут дальше совсем неинтересно, – буркнула под нос Алая, взяла обеими руками таз и пошла выплескивать воду во двор.
– Да быть того не может! Чтобы сын господина доктора так безобразил, ни в жизнь не поверю! – горячился шорник.
Алая поджала губы и повторила свой рассказ. Но тупоумный мужик только тряс отрицательно головой и твердил, что зря он доверился колдунье, что надо было сразу идти в храм.
Алая, видя, что дело дрянь, нахмурила брови и сказала грозно:
– Денег не отдам!
Было видно, что шорнику страсть, как жалко отданных ни за что монет. Но спорить с женщиной он не стал: кто ее знает, ведьму проклятущую, еще наведет порчу, и все его седла покроются ржавой плесенью, которая, как известно, в три дня разъедает самую лучшую кожу. Ну, ее, связываться еще с ней! И ушел.
Нет, дочка его не умерла от поцелуев злобного инкуба, не бойтесь! Только через два месяца, когда сын господина доктора неожиданно уехал обучаться в один из отдаленнейших городов страны, шорник снова сидел на дубовом табурете перед Алой. Рядом в плетеном кресле плакала его все еще красивая, но уже совсем невеселая дочь.
– Плод травить – это тебе не инкубов со священниками выгонять. Грубое это дело. – ворчливо пеняла ему Алая.
– Я что, я любые деньги…
– Розу принес?
– Да, вот, красная, как и просила, – шорник развернул дерюжку и вынул чуть помятую, но свежую и нежно благоухавшую розу.
– Ну, вот и плата с тебя. Ступай вон, а девка пусть останется.
Шорник вышел, а колдунья открыла ящик, полный острых хитрых инструментов. Девушка в ужасе смотрела на блестевшие лезвия. Алая вынула короткий ножичек, взяла розу и принялась срезать с нее шипы. И пока она делала это, красота цветка убывала. Темнели и сворачивались лепестки, исчезал тонкий аромат, сохли и осыпались листья… Алая отложила бурую увядшую ветку в сторону, сказала себе под нос:
– Надо воды накипятить! Что сидишь, бери ведра и марш к роднику! – и подбросила дров в очаг.
10. Гармония неведомой страны
– А шут его знает, зачем он это затеял, – нервно ответил на вопрос Алой старшина торговых рядов. – Вроде бы зла ему на нас держать не за что. Я уж всех опросил. Разное, знаешь, бывает: ну, думаю, может, кто прищемил юнцу хвост, или девка замешана. Девки сейчас пошли – ух! Нет, никто ничего не замечал. Да только, как утро, заявляется он на базар и начинает пиликать. Ажно душу вынимает! Какая тут торговля! Вконец разорил.
Алой не часто случалось слышать такую странную просьбу. А просили ее вот о чем: чтобы молодой сын известного путешественника (кстати, сейчас опять пропадающего неизвестно где, а то бы быстро нашлась управа на юного обормота) и почетного гражданина города Волдомиро (кстати, сына все звали малец Волдомиро) перестал пиликать. В последнее время он повадился по утрам выходить на рыночную площадь, вооруженный неведомой цитрой со странной прямоугольной длинной декой и тринадцатью (все успели сосчитать пронырливые горожане) струнами, и начинал играть на этой цитре нечто необыкновенно заунывное и противное. От жутких этих звуков у всего торгового люда, а, главное, у покупателей, принимались ныть сразу все зубы, раскалывалась голова, а у некоторых, особо чувствительных, даже шла носом кровь. А малец Волдомиро сидел посреди площади, полузакрыв глаза, и покачивался в странном трансе. И ни уговоры добрым словом, ни угрозы не могли прекратить его странного поведения.
– На тебя вся надежда, – вздохнул старшина торговых рядов, отсчитывая монеты. – Потому как еще немного, и шорник прибьет его – у шорника недавно двойня родилась, так что нет ему покоя ни днем, ни ночью. Измаялись мы.
Алая важно кивнула, хотя, по правде сказать, совсем не понимала, как подступиться к этому странному делу. Но, поразмыслив, решила сперва сходить посмотреть на пиликальщика собственными глазами.
Все так и было: посреди базара сидел подросток лет четырнадцати, бережно в руках держал диковинную цитру и извлекал из нее время от времени душераздирающие, удивительно негармоничные звуки. Тут была какая-то ошибка. Сама цитра была красивой, изящной вещью, сделанной из неизвестного Алой дерева. Колки ее были выточены искусно, а поверхность покрыта темным лаком, блестевшим не явно, не нагло, как блестели поливные кринки, а мягко и маняще.
Алая еще с минуту подумала, а потом решительно подошла к подростку и хлопнула его мягко раскрытой ладонью прямо в темечко. Юнец Волдомиро немедленно погрузился в сон. Алая вынула из его ослабевших рук цитру, погладила осторожно дерево, тронула струны так нежно, что не раздалось ни звука, и поступила неожиданно. Она села прямо посреди рыночной грязи, диковинно села – на пятки, распустив веером вокруг юбку, положила инструмент себе на колени и задумалась.
Сперва в голове у Алой царила пустота, словно молочный туман, застилавший ее внутреннее зрение. Потом туман стал мягко расступаться, и она увидела диковинный дом, легкий и хрупкий, сделанный из пустотелых странных деревяшек и какой-то полупрозрачной тонкой ткани. Стены в доме были раздвижные, внутри в доме горели огни, и на этих раздвижных стенах, на этой полупрозрачной ткани скользили тени женщин. Одна из женщин сидела, полузаслоненная ширмой, а другие сновали вокруг нее, собирая на низенький столик множество блюд с не похожей на привычную едой – Алая даже засомневалась, еда ли это? Какие-то уплощенные колобки и шкатулочки. Может, краски для лица или лекарственные снадобья? Но женщина взяла колобок пальцами и окунула его в одну из шкатулочек, а потом отправила в рот. И тотчас отодвинула низенький столик, и прилегла рядом.
Это была странная женщина. Там, где жила Алая, ценились крепко сбитые, работящие, двужильные бабы из породы кровь с молоком, громкие голоса которых далеко раздавались в округе. "Баба – огонь!" – говорили про таких довольные мужья. А женщина в диковинном доме была другой. Она была трогательной и беспомощной. Казалось, даже ее многослойные пышные одежды тяготят ее и прижимают к земле. Казалось, если она встанет в полный рост, то тут же упадет, сломанная бременем и грубостью этого мира.
Алая опустила голову, всмотрелась в тринадцать струн и принялась играть. Это были совсем другие звуки, не те, что вымучивал из кото (так называлась странная цитра) подросток, это была песня далекого мира, отстоявшего от мира Алой не только в пространстве, но и во времени. Музыка все расширялась, росла, заполняла собой рыночную площадь, ласкала уши удивленных слушателей, то зависая длинными тягучими струями, то рассыпаясь мелкими брызгами, и вдруг неожиданно смолкла.
Малец Волдомиро уже не спал, он лежал ничком, плечи его вздрагивали, и все понимали, что он плачет.
– Откуда ты взял это, сынок? – спросила его Алая.
Он ничего не ответил.
– Этому не место в нашем мире. Напрасно твой отец вытащил этот инструмент оттуда, откуда он его вытащил. Заберу-ка я его, пожалуй, с собой.
Так она и сделала. И торговля пошла еще бойче, чем прежде.
11. Самая короткая история про Алую
В плетеном кресле перед Алой сидела стройная красивая девушка и плакала.
Густая русая коса, возлежавшая, как на полке, на высокой груди, почти полностью пропиталась слезами.
– Ну, и что с того, что я умница и красавица? Меня никто замуж не берет. Была б я просто оборотнем – еще ладно. Многим лестно заиметь ручную волчицу или игривую рысь. Но ведь эта пакость, в которую я обращаюсь, никому и даром не нужна.
Алая молча кивала, а руки ее в это время работали, сперва споро и аккуратно вырезая из листа золоченой фольги маленькую иглистую звездочку, а затем сворачивая ее в виде герцогской короны. Сложив корону, слишком маленькую даже для младенца, Алая посмотрела на девушку строгим взглядом и велела:
– А ну, перекинься.
Потом приладила корону на голову превращенной, улыбнулась довольно и сказала.
– Все готово. Теперь ты не просто лягушка, а царевна-лягушка. Всего семь букв, а какая разница!
12. Что-нибудь полегче
Всякий, кто жил в небольших итальянских отелях, знает, как трудно там позавтракать чем-нибудь полезным. Обычно, выходя утром в ресторан, вы видите массу сладких песочных и бисквитных пирогов, кекса, печеньев и т.д. За стойкой бара вам приветливо улыбается черноволосый Марио и предлагает чашку превосходного эспрессо или латте. Ни вам бекона, ни яичницы, ни жареных помидоров, ни тушеной фасоли, ни овсянки, ни грейпфрута – всего того, что так щедро положено британцу на завтрак. Эта женщина, наверное, была британкой. Средних лет, ничем не примечательная, она заказывала утром чашечку латте и выпивала ее, задумчиво разглядывая посетителей ресторана. Потом заказывала еще одну, потом еще… И ничего не ела.
Впрочем, не она была страдалицей в этом царстве утренних пирогов. Страдалицей была Оленька, горячая сторонница ЗОЖ, яростно считавшая калории и наворачивавшая круги по набережной утром, вечером и даже жарким тосканским днем. В первый же день, оценив масштабы бедствия, она припала, точно к чудотворному роднику, к блюду, на котором лежали вареные яйца, которых, кстати сказать, кроме нее никто не брал. И вот по утрам она тщательно очищала каждое яйцо, потом также тщательно отделяла белок от желтка, поедала первый и с презрением отвергала второй. Рядом с ее тарелкой росла горка скорлупы, а на ее тарелке росла горка веселых подмигивающих желтков, совсем не ожидавших, что они закончат свою жизнь в мусорном баке.
Неприметная британка, лениво взглядывала иногда на Оленьку, и взгляд ее не выражал ни осуждения, ни одобрения. Но однажды, кажется, на восьмой день издевательства девушки над яйцами, женщина встала и решительно направилась к ее столику.
– Извините, – почему-то по-русски сказала британка, – если вам не нужны эти желтки, можно, я их заберу? – И не дождавшись разрешения, сгребла их одной рукой в прозрачную миску.
Раздался звон, словно тысячи хрусталиков просыпались с неба, и Оленька с удивлением увидела, что в миске у женщины лежат не желтки, а ровные круглые, вроде бы, золотые, – да нет, точно золотые – шары.
Женщина проследила Оленьким взгляд и улыбнулась:
– Тяжелые, правда? Слишком тяжелые. А хочется чего-нибудь полегче. – И золотые шары в миг обратились в золотые головки одуванчиков.
– Еще легче? – женщина подмигнула, – и желтые цветы вдруг стали белыми пуховыми головками.
– Ухх! – дунула женщина и легкие парашютики разлетелись по всему залу, заискрились и вместо того, чтобы осыпаться, медленно поднялись вверх и исчезли где-то под потолком.
Никто не суетился, не показывал пальцем, не кричал, казалось, все восприняли происшедшее, как обычную, вполне себе курортную забаву. Неприметная женщина также неприметно исчезла, а на столе перед Оленькой, прямо поверх скорлупы лежала роскошная тысячелепестковая роза и благоухала, точно райский сад.
13.А Временная петля
– Временная петля – бормотала под нос Алая, потирая бог знает сколько уже нывшую макушку. – Далась мне эта временная петля! Всем давно известно, что никаких временных петель и на свете-то не бывает! Континуум пространства-времени так крепок, что ничто не может его разрушить. Тут надо такую силищу иметь, что ого-го, – Алая задохнулась от осознания, что такой силищи ей не заполучить никогда, вздохнула и некоторое время завистливо молчала.
– Дежавю опять же – продолжила она бормотать через некоторое время, смешивая в глиняной корчаге слизь носатой жабы с пыльцой ветреницы, чтобы получить хорошо себя зарекомендовавшую мазь от кругов под глазами. – Некоторые считают, что это следствие все той же временной петли. А как тут не быть дежавю, когда цельный день только и делаешь, что варишь зелья и толчешь травы в ступке! – От возмущенья Алая неосторожно мотнула головой и боль вернулась с удесятеренной силой.
– Вот ведь. Как будто кто меня дубиной прямо в темя шандарахнул. По-хорошему, оно надо отвар черной бульбы – он любую боль вытягивает, в особенности такую, про какую сам не знаешь, откуда взялась. Да где ж ее сейчас возьмешь, черную бульбу? Вот разве в рундуке осталась…
И колдунья полезла копаться в стоявшем в сенях древнем рундуке. Один за другим на пол валились разнообразные предметы: не то отделанный кружевом, не то изодранный в клочья фартук, парик не первой свежести иссиня-черного цвета, связка ивовых прутьев, несколько гусиных перьев, остро отточенных и измазанных засохшими чернилами, чугунок с топленым свиным салом… Наконец, Алая издала торжествующий крик: в руке у нее чернел крохотный, еле заметный корнеплод.
Дело спорилось: кипела вода, целебный отвар булькал и даже пар от него веселил душу. Впрочем, дел еще было немеряно. Например, надо было покормить лису.
Алая взяла миску с приготовленным кормом и пошла к двери. Толкнула раз – не открывается. Толкнула два – да что ж такое! разбухла, что ли, от пара? В третий раз Алая двинула по двери со всей мочи ногой, и та распахнулась со странным звуком.
– Как будто я кого-то дверью приложила, – сказала колдунья, с опаской выглядывая наружу. Никого не было. Яркое весеннее солнце слепило глаза, а лиса, нетерпеливо тявкая, уже бежала к заветной миске. Впрочем, подойдя поближе и принюхавшись, зверек обиженно подвыл.
– Да, – Алая была строга, – сегодня бараний рубец. Я знаю, ты предпочла бы куриные сердечки или заячью печень, – и лиса, поняв, что лакомств сегодня не дождется, принялась громко чавкать.






