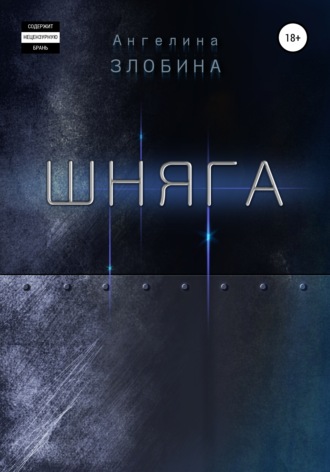
Ангелина Злобина
Шняга
Часть первая
1.
Если верить цифрам на дорожном указателе, то от федеральной трассы до Загряжья было ровно двенадцать километров. Путь, соединяющий шоссе с небольшим селом, обозначался в полях извилистой колеёй, а в еловом лесу – постепенно зарастающей просекой.
Осенью и весной дороги закрывали – залитые дождями или талой водой поля превращались в топкую черную грязь, из-за которой, судя по всему, село и всю местность за лесом и назвали «Загряжье».
Село стояло на холмах, или, как говорили местные – «на гора́х». Одна гора называлась Загрячиха, другая Поповка; между ними текла река, когда-то такая полноводная, что во время разлива старый деревянный мост накрывало выше перил. Однажды в половодье мост унесло, остались посреди реки только сваи, потом и они куда-то исчезли. Река постепенно обмелела, заилилась – у Поповки глубина стала по колено, у Загрячихи по пояс, а в середине появились зелёные островки.
Был когда-то ещё и третий холм, на нём стоял бревенчатый дом с вывесками, «Сельмаг» и «Чайная». Площадь перед этим сооружением именовалась в народе «Перцовой». Тот холм по приказу районного начальства давным-давно срыли бульдозерами. Тогда же, во внезапном порыве благоустройства сузили речное русло и построили бетонный мост. Название холма забылось, а когда на берегу появился новый панельный магазин, площадь возле него по старой памяти стали называть Перцовой.
На самом длинном холме – Загряжском – сразу за сельскими домами тянулись сады и огороды, за огородами простиралось зарастающее бурьяном поле, за полем виднелся лес. Дальняя правая сторона леса называлась «Гнилой угол», оттуда на Загряжье обычно приходили дожди и грозы, а если туча надвигалась с другой стороны, то будь она хоть тернового цвета и в полнеба величиной, местные не придавали ей никакого значения.
Загряжцы ходили в лес за грибами, ягодами и орехами, у каждого были свои тайные грибные места и свои земляничные поляны, а где заканчивался лес, никто точно не знал. Некоторые чудаки пытались пройти его насквозь, но, поблуждав в чаще, выходили всё к тому же, заросшему бурьяном полю и видели на горизонте ряд знакомых крыш, сады и тополь-грачевник.
Одни потом говорили, что набрели в лесу на широкую бетонную дорогу, похожую на взлётную полосу. Другие рассказывали, что будто бы нашли заброшенную железнодорожную платформу, утопающую в цветах иван-чая – всю в трещинах и провалах, но с уцелевшим ограждением и жестяным плакатом «По путям ходить опасно!».
На самой крутой горе – Поповке, стояла в старых липах полуразрушенная церковь. Рядом с ней был раньше поповский дом, но его давным-давно разобрали, остался сад, так густо заплетённый повиликой, что созревшие яблоки не долетали до земли, а подгнившая изгородь не упала, а только привалилась к копнам из путаных стеблей.
Были раньше на Поповке и другие строения – школа, учительский барак и керосиновая лавка. Напротив школы стоял гипсовый Ленин с вытянутой рукой, небольшой, примерно в рост школьника-пятиклассника. Каркас у скульптуры, судя по всему, был какой-то непрочный: постепенно Ильич стал крениться назад, с каждым годом указывая рукой всё выше, а однажды рухнул в клумбу и раскололся.
Керосиновая лавка, конечно, сгорела. Всё остальное разрушилось, и тоже как-то незаметно. Никто из местных точно не мог сказать, как случилось, что ничего, кроме фундаментов, не осталось ни от учительского барака, ни от школы.
Вот местный клуб, например, – бывший дом князей Грачёвых – сгорел от молнии, об этом знали все. Он простоял без единого ремонта почти семьдесят лет, а когда его, наконец, собрались отремонтировать, он – со всем новым тёсом, шифером, со всей олифой и мешками побелки – сгорел в одну ночь дотла.
В Загряжье вообще часто случались грозы.
Местный краевед, бывший агроном Гена Шевлягин, утверждал, что русло реки – не что иное, как верхняя часть гигантского земного разлома, поэтому и происходят в Загряжье всяческие необычные явления.
В остатках росписи на облупившемся церковном своде Гена разглядел изображение НЛО, черненькое, похожее на приземистую табуретку. Апостола, указывающего перстом на объект, как выяснилось, звали Фома, и в этом Гена тоже усматривал намёк на тщету недоверия. Двое сомневающихся принесли верёвку, через пролом в крыше поочередно спустились по стене и увидели на облаке над апостольским перстом надпись «ДМБ-78», о чём и сообщили краеведу. Тот приуныл, но уточнил на всякий случай, что насчёт молний вопрос остается открытым. И с этим нельзя было не согласиться.
Все в Загряжье помнили, как однажды во время грозы сияющий шар зацепился за калитку Беловых и с шипением и треском прошелся вдоль всего штакетника, превратив верх изгороди в головешки.
А однажды у старухи Иванниковой из кухонного крана посыпались искры, и надулся над мойкой огненный пузырь величиной с футбольный мяч. Пузырь легко отсоединился, волнуясь боками и потрескивая, медленно поплыл к раскрытому окну, метнулся на улицу и врезался в столб. Раздался грохот, повалил дым.
Старуха Иванникова ничуть не пострадала, по слабости ума она не успела вовремя испугаться. Зато потом так часто рассказывала об этом происшествии, изображая плывущий шар и собственное восхщённое оцепенение, что возгордилась, повеселела и даже перестала бояться кухонного крана.
А столб, в который ударила молния, оставшись снаружи невредимым, изнутри выгорел совершенно.
Кое-кто из сельчан многозначительно намекал, что не следовало ломать сельскую церковь, вот и не летали бы по домам огненные шары. На что, например, Иван Иванович Егоров, проживший в Загряжье больше семидесяти лет, только отмахивался – ерунда! Он в детстве и сам видел шаровую молнию, а церковь тогда ещё была цела и при колокольне. Правда, уже без крестов. В ту пору в ней хранили яблоки из совхозного сада.
Егоров на всю жизнь запомнил лиловый шар в небе и удар грома – будто с треском разорвали над крышей крепкое полотняное небо. Полыхнуло в глаза холодным марганцевым светом, а когда грохнуло снова – погасли в доме все лампы, только в углу теплилась бабкина лампадка, подсвечивая три латунных цепочки и желтоватый оклад с темными прорезями.
Когда ломали колокольню, Егорову шел седьмой год. Стоял сухой жаркий апрель, на тополях с тихим треском лопались почки, а на склонах сквозь сеть прошлогодней травы проклёвывалась первая зелень. На Поповке тарахтел трактор, изо всех своих механических сил натягивая блестящий на солнце стальной трос, обвязанный вокруг столба колокольного яруса. Ополоумевшие стрижи кричали и носились над церковью. Колокольня медленно повалилась вбок, ломая липовые ветви, роняя куски кирпичной кладки и стрижиные гнёзда. А трактор поволок за собой сорвавшийся трос, перевернулся, фыркнул, и, лязгая, как сундук с железом, скатился с горы в реку.
Никто не успел заметить, когда тракторист выпал или выпрыгнул из кабины. Видели только, как он быстро карабкался по крутому склону наверх, оступался и падал.
Доставать трактор даже не пытались – дно реки со стороны Поповки всегда было топким. Несколько лет торчал над водой помятый угол кабины, а когда в половодье унесло старый деревянный мост, трактор тоже исчез. Под горой образовалась длинная отмель, и разросся камыш.
Ходил слух, что на самом деле тракторист улетел вместе с трактором в реку, а метался по склону вовсе не он. Один из Загряжских мужиков рассказывал в компании собутыльников на Перцовой площади, как спьяну уснул под забором поповского сада. Проснулся от грохота, увидел, как мимо летят кирпичи, потом трактор, ну и дал дёру. Споткнулся, да ещё трос какой-то ногой зацепил…
Местные не то чтобы верили, они были не против такой версии. А, например, бабка Егорова говорила: «ну и шут с ним, с трактористом! Хоть бы они все передохли, эти ломатели!»
Церковное здание вскоре оказалось ненужным, – для овощей и фруктов появились другие места хранения, а потом не стало ни совхозного сада, ни самого совхоза.
Церковь долго стояла заброшенной, ржавели ворота и оконные решетки, рушились своды.
Руины снова вызвали практический интерес, когда старшая дочь Беловых Таисия вышла замуж за водителя с лесопилки, курчавого здоровяка Митю Корбута.
Таськин муж первым и смекнул, что негоже пропадать дармовому стройматериалу, пусть даже и битому. Вскоре у дома Беловых-Корбутов вместо обгорелого штакетника появился кирпичный забор, а вместо кособокого сарая возник добротный гараж из старого кирпича с жилой мансардой и затейливыми решетками в окнах.
Односельчане удивленно качали головами, но, в целом, к хозяйственной деятельности нового соседа относились с пониманием – и впрямь, чего добру пропадать? Да и сам Митя оказался человеком полезным – по найму делал любую работу, мог и копать, и красить, и ломать, и строить, брал недорого. За кусок вырезки и ливер аккуратно и быстро резал домашний скот, сам готовил отличную колбасу, варил чистейший самогон, пахнущий полынной росой, а в подпитии заливисто пел.
Опасаться было нечего, местное начальство развалинами не интересовалось, оно и всё Загряжье вспоминало нечасто. Только накануне выборов въезжал в село грейдер, а за ним, по расчищенной дороге – агитаторы с плакатами и листовками. С плакатов смотрели на загряжцев серьёзные, красиво причёсанные люди, может новые, а может те же самые, что и каждый выборный год, кто их знает. Все они обещали построить дорогу от федеральной трассы до села, но дорога какой была много лет, такой и оставалась – летом ухабы, зимой снежные заносы и бурелом, а когда ни снега, ни засухи – густое непролазное месиво, в котором лоси вязли по самое брюхо. Одно слово – Загряжье.
2.
Всю короткую ночь Егорову не спалось.
На сеновале было душно, ныли комары, в сене что-то шуршало и щелкало, внизу всхрапывал и терся боком о стенку боров, а над чердачным окном, как сонные старухи бормотали горлицы.
Егоров долго перекладывался с боку на бок, кряхтел, почесывался, а когда сквозь все щели сразу забрезжил утренний свет, – сел, откашлялся и по-стариковски потёр ладонью грудь. В саду всё громче и громче щебетали птицы; быстро светало. Егоров спустился с сеновала, взял в сарае две удочки, забрал из-под смородинового куста заготовленную с вечера банку с червями и направился к реке.
Место у него было своё, – прямо напротив дома, под обрывом, где косо торчал из песка большой дубовый пень с корневищем. Когда-то во время разлива этот пень принесло течением, а когда вода спа́ла, он так и остался на берегу, увязнув одной стороной в песке, а другую держа над водой, как тёмную когтистую лапу.
Никто, кроме Егорова на этом месте не рыбачил. Не потому что Егоров запрещал – да нибожемой! – река общая, берег не куплен. Просто ни у кого больше рыба возле дубового пня не ловилась.
Как-то раз краевед Шевлягин, чтобы развеять миф, на спор с односельчанами просидел там с рассвета до полудня и подсёк плотвичку – небольшую, меньше ладони, а она возьми и сорвись! Ушла под воду и будто своим рассказала, ни единой поклёвки больше. Признать поражение в том споре Гена не согласился, – ведь рыба-то попалась? Односельчане резонно возразили – ну и где она? Спор накалился, подтянулись сочувствующие и тоже высказались, покричали немного, потом выпили самогону и, хоть ничью правоту не признали, разошлись мирно.
С тех пор только деревенский дурачок Юрочка иногда составлял Егорову компанию, но без всякой рыболовной снасти, просто из склонности к прилежному и бескорыстному наблюдению за жизнью.
Юрочка был чудной от рождения – длинное туловище, широкие плечи и короткие ноги колесом. И одевался он чудно: носил отцовскую милицейскую форму старого образца – фуражку, китель и штаны с лампасами, никакой другой одежды не признавал. Ходил он быстро, сильно припадая на каждую ногу, сдержанно кивал знакомым, козырял особо уважаемым, а на вопрос «как дела?» с заговорщицкой усмешкой отвечал – «это потомучто!»
Что бы ни происходило в Загряжье – починка автомобиля, строительство гаража, разгрузка дров, или другое какое событие – Юрик всегда стоял рядом, в компании любопытствующих. Смеялся, когда все смеялись, сокрушенно качал головой, когда все негодовали и подавал спички тому, кто, держа в зубах сигарету, хлопал себя по карманам. Спиртного Юрочка не пил, а курить бросил после одного случая.
Как-то раз подвыпившие мужики шутки ради подсунули ему сигарету с пистоном. Стрельнуло на третьей затяжке, обожгло Юрику кончик носа и костяшки пальцев.
Шутники, опасливо расступившись, загоготали. Юрочка аккуратно плюнул на окурок, затоптал его и серьёзно сказал:
– Я думал, вы умные.
На носу у него осталась темная метка, вроде птичьей лапки. Сигареты с того дня он больше в руки не брал, а спички в кармане носил на всякий случай.
Юрочка жил под опекой младшей сестры Маши, маленькой и тихой незамужней женщины. Их дом стоял на краю Загрячихи, чуть в стороне от всех, под старым тополем с необъятным морщинистым стволом и высокой раздвоенной кроной, сплошь унизанной чёрными гнездами. Тополь называли грачевником – отчасти из-за шумной колонии птиц, населявшей гнёзда, отчасти из-за фамилии владельцев дома – Грачёвых.
Отчего-то Юрочка дом своим не считал, беспечно говорил – «это Машкино!» – и в любое время года спал в дровяном сарае, укрывшись тяжелым овчинным тулупом.
Местная фельдшерица однажды зимним вечером зашла проведать приболевшую Машу, увидала в открытом настежь сарае спящего на топчане Юру и была изумлена его мощной багровой спиной, широким загривком и мускулистой рукой, лежащей поверх косо накинутого тулупа.
Иногда, в сильные морозы, Маше удавалось уговорить брата ночевать в доме, где у него имелась своя комната с железной кроватью и горкой подушек, с геранью на подоконнике и с двумя фотографиями в рамках над плюшевым ковром.
Люди на этих фото были так незнакомо, нездешне хороши собой, что постороннему человеку и в голову не пришло бы, что это покойные родители Маши и Юрочки, а не актёры из старого чёрно-белого фильма.
Когда морозы ослабевали, Юра брал тулуп и снова шёл в дровяной сарай.
– Гулять надо на свои! – всякий раз, уходя, бодро говорил он.
* * *
Егоров широко зевнул и поёжился, под берегом ещё было прохладно. Солнце медленно выбралось из-за бугра, растопило остатки тумана над рекой, подсветило обрыв, жёлтую полоску песка, два поплавка и лежащую в камышах пузатую пластиковую бутылку. В пакете, пристроенном к дубовому корню, уже шлёпали хвостами четыре леща и пара плотвичек.
По ступенчатой тропке под гору спускался Юрочка.
– Ну как оно? – приблизившись, спросил он.
– Да чего-то не очень, – снова зевнув, ответил Егоров. – Не проснулась, наверное…
– Кто?
– Рыба, кто ж ещё…
Юрочка взгромоздился на пень и достал из кармана кителя горсть семечек.
Стало понемногу припекать. Над кочкой, густо поросшей молодым розовым клевером, прерывисто жужжала пчела, тихо шелестели в траве кузнечики; нарезая лихие круги над водой, щебетали ласточки, а на другом берегу, в заброшенном поповском саду заливался свистом и щёлканьем не угомонившийся с ночи соловей.
Егоров заслушался, впал в приятную задумчивость и чуть было не задремал.
Громкий механический стрёкот заставил его вздрогнуть. Егоров от неожиданности пригнулся и втянул голову в плечи, спину и руки будто прихватило морозом. Непонятной природы звук – настойчивый, с гулким металлическим эхом – постепенно усилился и внезапно смолк.
Стало тихо. Кузнечики затаились, исчезли куда-то ласточки и соловей будто умер. Егоров сглотнул, зажал ладонью правое ухо, потом левое. Тряхнул головой. Обернулся.
Юра, не донеся до рта щепоть с семечкой, сидел неподвижно и смотрел на воду. Переведя взгляд на Егорова, он смахнул приставшую к губе шелуху и, как ни в чём ни бывало, сказал:
– Клюёт у тебя.
Егоров спешно схватился за удочку, привстал, потянул, и, сверкая, забилась о воду крупная белобрюхая рыба.
Юрик развеселился и заёрзал, качая маленькими ногами.
– Вот оно так! Это потомучто!
Пока Егоров возился с рыбой и всё ещё дрожащими руками насаживал нового червя, Юрочка слез с пня и заковылял по тропке наверх.
– Лещей-то не возьмёшь? – крикнул Егоров ему вслед. – Возьми, Машка пожарит!
Юра, не оборачиваясь, помотал головой.
– Гулять надо на свои!
Егоров снова закинул удочку.
Странный механический звук сильно встревожил его, ничего подобного Егоров раньше никогда не слыхал. «Недоспал, что ли…» – успокаивал он себя. Однако у берега по-прежнему было необычно тихо, словно всё живое умолкло в недоумении. Бесшумно бегали водомерки. Стрекоза села на поплавок и замерла, как неживая.
За спиной что-то глухо и тяжко стукнуло, покатились к воде мелкие камешки, и тут же широким потоком хлынул в реку песок; поплавки сбило мутной волной, один оторвался и поплыл по течению. Егоров встал. На его глазах часть обрыва осела и громадным ломтём обрушилась в реку, накрыв собой берег, заросли камыша и дубовый пень, на котором только что сидел Юрочка.
В образовавшейся впадине матово блестело что-то гладкое, похожее на часть огромного механизма.
Егоров робко приблизился. Навстречу ему бесшумно выдвинулась металлическая площадка, над ней раскрылась овальная дверь. От площадки, срезав часть песочного отвала, опустился короткий трап.
Егоров попятился, едва не упал, а потом развернулся, и, не дыша, не оглядываясь, пошел по тропинке вверх.
3.
Егоров остановился у крыльца, положил ладонь на перила и долго стоял, хмуро глядя куда-то вбок – не то на сохнущий на изгороди круглый вязаный половик, не то на морщинистый ствол ясеня с глубокой поперечной бороздой от привязанной когда-то проволоки.
На ветке тихонько бормотал скворец. Заметил неподвижно стоящего человека, он смолк, пригляделся, разочарованно присвистнул и забормотал снова.
В доме было тихо, все ещё спали – Анна Васильевна на веранде, а в комнатах приехавшие накануне вечером гости – сын Сергей и две внучки.
«Пойду-ка я досыпать!», – решил Егоров и побрёл к сеновалу.
Проснулся он оттого, что внизу громко скрипнула дверь, лязгнуло ведро, и тут же стал энергично всхрапывать и чавкать поросёнок. Дверь снова заскрипела и хлопнула.
Егоров попытался вспомнить приснившийся нехороший сон, всполошился и сел. В сильном волнении он спустился с сеновала, надеясь, что в углу сарая чудесным образом обнаружатся удочки, а под кустом смородины будет стоять влажная от росы банка с червями, однако ни того ни другого на месте не оказалось.
По огороду цаплей вышагивала старшая внучка Дашка, длинноногая девица четырнадцати лет. Она что-то ела с ладони и отмахивалась от невидимой пчелы. Младшая – Нюта, в обнимку с куклой сидела на скамейке и задумчиво качала ногой.
Сергей стоял на коленях возле грядки с укропом и затягивал ключом муфту на поливном шланге. Рядом билась в воздухе водяная струйка, она то рассыпалась радужными брызгами, то вздымалась и опадала.
Анна Васильевна чистила картошку на веранде. Увидев мужа, заспанного и лохматого, она насмешливо сказала:
– Проснулся… – и звонко крикнула: – Сереже ключ какой-то нужен был, давай-ка, найди!
Егоров вернулся в сарай, погремел там железками и, выйдя, предъявил заржавелый разводной ключ.
– Сергей! такой?
Сын, едва глянув, сказал:
– Да не, пап… Уже не надо.
Егоров вдруг преисполнился жалости и умиления. Жаль ему стало свою хлопотливую жену Анну Васильевну и деловитого взрослого сына, жаль обеих внучек – чудных, ни на кого не похожих девчонок. Жаль всех, живущих свои обыкновенные жизни и не знающих, что там, под склоном, на который испокон веку загряжцы вываливают прелые яблоки и гнилую картошку, оказывается, давно уже таится нечто чужое и непонятное. А, может быть, даже опасное и противное всему мироустройству вообще!
От этой жалости в груди у Егорова защемило, он вспомнил, что в вишеннике с вечера лежит убранная на всякий случай бутылка с остатком самогона, а на обломанной ветке висит специальная эмалированная кружка с овальным сколом на дне.
Егорову очень хотелось поговорить с кем-нибудь о том, что он увидел на берегу, показать всё на месте и рассказать, что и как. Это должен быть обстоятельный и серьёзный разговор, и собеседник непременно должен быть человеком обстоятельным и серьёзным, одним словом – нормальным. Егоров перебирал в уме всех соседей, и по всему выходило, что из всех загряжцев самый нормальный – Митя Корбут. Однако чутьё подсказывало, что именно Мите пока ни о чём рассказывать не следует.
Егоров собрался было обратиться к Сергею, но отчего-то застеснялся и раздумал.
Дашка уселась на лавку возле сарая и пальцем поманила к себе сестру.
– Иди ко мне, маленькое чудовище. Будем учить новые слова.
Нюта послушно придвинулась.
– Повторяй за мной, – иронически улыбаясь, начала старшая:
– Духовной жаждою томим…
Младшая старательно пролепетала свою версию. Дашка тихо рассмеялась и продолжила:
– В пустыне мрачной я влачился…
Рассеянно прислушиваясь к разговору девчонок, Егоров сорвал несколько веток укропа, выдернул пяток редисок, прополоскал их в бочке с дождевой водой и пошёл в вишенник.
Даша сменила тему:
– Синус, косинус, тангенс…
Нюта кое-как повторяла, а потом, вопросительно глянув на сестру, указала пальцем на лежащий на скамье разводной ключ.
– Шняга, – чётко артикулируя, пояснила Даша.
– Шняга, – робко повторило лупоглазое дитя.
Дашка снова захохотала.
Допив самогон, Егоров спрятал в траву пустую бутылку, повесил на сучок кружку и уселся под вишней.
День наливался жарой и светом, в небе снова летали ласточки, у соседей включилось и с полуслова бойко запело радио, в цветок лилейника врезался шмель, затих, набычился и стал копать рыхлую желтую пыльцу.
Егоров хрустел молодой редиской, смотрел, как покачивается от шмелиных стараний длинный стебель, и слушал удивительный разговор внучек, похожий на птичий щебет.
В груди у него стало так горячо, что левый глаз заслезился, а в носу защипало, будто кто в шутку тронул возле ноздри острой травинкой.
На секунду вспомнилась гладкая овальная дверь и открывшаяся за ней тьма, но сейчас это почему-то не пугало.
«Да мало ли чего там, может машина какая увязла! – Беспечно подумал Егоров. – Сходить, что ли, взглянуть? Опять же, удочки мои там…»
Он поднялся, и, не спеша, пошёл мимо сарая.
– С тобой! – Заявила Нюта, и, соскочив со скамьи, протянула деду руку.
По дороге к реке девочка на всё показывала пальцем, и Егоров объяснял ей:
– Трава. Называется лебеда. А это мусор. Не надо, не трогай ручками, это бяка. Тьфу.
– Мусор?
– Да, бросают под гору всё время…
– Тьфу!
– Вот именно.
Они спустились по тропке к самому берегу. Не доходя нескольких шагов до песчаной осыпи и дыры в обрыве, Егоров остановился. Нюта удивлённо приоткрыла рот и, показав на темный металлический панцирь с трапом и распахнутой дверью, сказала:
– Шняга!
Возле нижней ступеньки трапа, свернувшись, как личинка майского жука, спал сосед Егоровых – Вася Селиванов.
– Вот те раз, – удивился Егоров.
– Дядя! – пояснило дитё и с сострадательной физиономией посмотрело на деда.
От безмятежно спящего Васи крепко несло самым дрянным из Загряжских самогонов. Такой гнала только старуха Иванникова, не стыдясь ни мутного цвета своего пойла, ни душного запаха. Зато и продавала недорого. Васино по-детски изумленное лицо покраснело от солнца, а ухо стало тёмно-малиновым. Он так старательно сопел, сложив губы клювом, будто ему снилось, что он надувает шар и удивляется его размерам.
Егоров покачал головой и повёл внучку обратно к дому.


