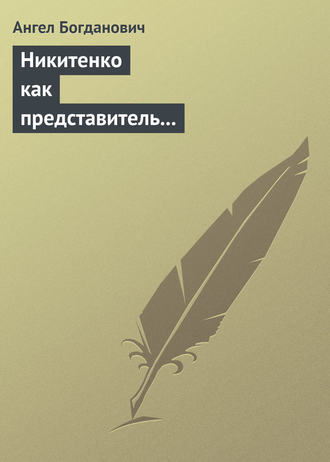
Ангел Богданович
Никитенко как представитель обывательской философии приспособляемости
Какъ ни комичны эти «случаи» для читателя, но не такъ было для литературы. «Былъ у меня Погодинъ, профессоръ московскаго университета. Онъ пріѣзжалъ сюда, между прочимъ, съ жалобою къ министру на московскую цензуру, которая ничего не позволяетъ печатать. Послѣ моего ареста, она превратилась въ настоящую литературную инквизицію. Погодинъ говоритъ, что въ Москвѣ удивляются здѣшней свободѣ печати. Можно себѣ представить, каково же тамъ!»(стр. 356-57, т. 1).
Прекрасно понимая все значеніе своей роли, какъ цензора, Никитенко тѣмъ не менѣе ни разу не задается вопросомъ, да зачѣмъ же служить въ цензурѣ ему, профессору, личному секретарю министра и человѣку вполнѣ обезличенному? «Утопаю въ дѣлахъ», «заваленъ дѣлами», «ни минуты собраться съ мыслями» – постоянно записываетъ Никитенко въ дневникѣ, но цензуры не бросаетъ. Наконецъ, его, что называется, взорвало. Какой-то Машковъ избралъ себѣ псевдонимъ «Кукуреку», за что министръ сдѣлалъ Никитенкѣ выговоръ. Никитенко огорчился. «Былъ сегодня у князя Волконскаго (начальника цензурнаго комитета), горячо объяснялся съ нимъ и просилъ уволить меня отъ цензуры. Что остается дѣлать въ этомъ званіи честному человѣку? Цензора теперь хуже квартальныхъ надзирателей. Князь во всемъ согласенъ со мной, но крайне огорченъ моимъ намѣреніемъ подать въ отставку», и отставка не подана. «На прощаніе мы горячо обнялись» (стр. 444-5, т. I).
Все-таки Никитенко испытываетъ по временамъ нѣкій зудъ въ душѣ. Онъ оправдывается и хватается за особую теорію, придуманную нарочито на случай дѣйствій «примѣнительно къ подлости», по выраженію Щедрина. «Составленные мною постановленія о публичныхъ лекціяхъ напечатаны уже въ журналѣ «Министерства Народнаго Просвѣщенія» и въ другихъ журналахъ. Многіе недовольны, не столько сутью постановленій, сколько появленіемъ ихъ на свѣтъ, и даже не оставляютъ безъ укора и меня. Но притомъ забываютъ или не хотятъ помнить, что идея закона не моя, а я, призванный осуществить ее, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, руководствовался однимъ, а именно: сдѣлать законъ наименѣе обременительнымъ, полагая, что если онъ попадетъ въ другія руки, то будетъ хуже для всѣхъ. Пусть упрекаютъ меня въ самонадѣянности, но, во всякомъ случаѣ, я дѣйствовалъ одушевленный благими намѣреніями и правиломъ: не отказываться ни отъ какого дѣла, если это обѣщаетъ хотя отрицательную, если не положительную, пользу просвѣщенію» (стр. 420, т. I).,
Тотъ же мотивъ звучитъ у него постоянно, когда ему приходится принимать участіе въ дѣлахъ, плохо примиряющихся съ его «направленіемъ», если только это слово примѣнимо къ людямъ этого типа. Такъ, когда въ 1857 г. былъ образованъ знаменитый «негласный комитетъ» надъ печатью и надъ самой цензурой, Никитенко сначала страшно возмущается. Но вотъ его самого приглашаютъ въ члены комитета, и Никитенко моментально воодушевляется «примирительными соображеніями». «Жребій брошенъ, – восклицаетъ торжественно новый Юлій Цезарь отъ цензуры. – Я на новомъ поприщѣ общественной дѣятельности. Трудности тутъ будутъ – и трудности значительные. Но нехорошо, нечестно было бы, избѣгая ихъ, отказываться дѣйствовать. Много будетъ толковъ. Возможно, что многіе станутъ меня упрекать за то, что я рѣшился съ моимъ чистымъ именемъ засѣдать въ трибуналѣ, который признается гасительнымъ, но въ томъ-то и дѣло, господа, что я хочу парализовать его гасительныя вожделѣнія». Впрочемъ, когда «гасительныя» свойства комитета оказались неугасимыми, Никитенко ушелъ. Тѣми же соображеніями руководствуется Никитенко, принимая на себя порученіи выработать новый цензурный уставъ, стать во главѣ оффиціальной газеты Валуева, словомъ, принимая всякія порученія, отъ которыхъ его нѣсколько мутитъ. Въ концѣ концовъ, получается общее неудовольствіе. Изъ примирительныхъ намѣреній Никитенки ничего не выходитъ въ комитетѣ, его цензурный уставъ такъ передѣлывается «умѣлой рукой бюрократа, посѣдѣвшаго въ канцелярскихъ бояхъ», что самъ Никитенко въ уныломъ недоумѣніи вопрошаетъ: «Мой уставъ… Да развѣ отъ него что осталось?» Увы, какъ оказывается дальше – осталось, именно всѣ мѣры «строгости и пресѣченія», которыя въ первой редакціи умѣрялись и уравновѣшивались «правами и вольностями». Никитенко, такимъ образомъ, только сыгралъ въ руку «посѣдѣлому бюрократу», уяснивъ ему первое и внушивъ понятное отвращеніе къ послѣднему.







