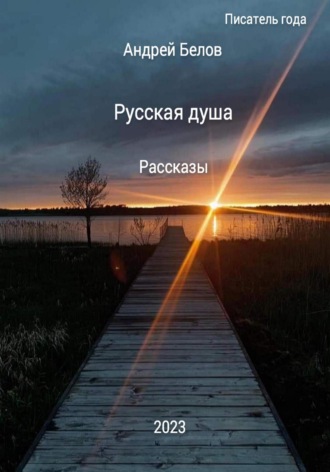
Андрей Викторович Белов
Русская душа. Рассказы
Феофан радовался успехам своего любимого ученика, и не без его помощи нет-нет да стали поступать заказы для Геннадия от монастырей и церквей. За год его ученик стал настолько известен, что выбирал, какие заказы в первую очередь выполнять, а какие и подождать могут.
Прошло уже два года, как Геннадий оказался в монастыре. Заказов у него было много, и, выполняя правила, установленные для иконописцев, когда они, получив благословение пишут икону: посты, молитвы, воздержание… домой стал ездить реже, но писал письма семье чуть ли не каждый день. Вера все больше захватывала его душу: в нем боролись любовь к Богу и любовь к жене и детям. Весь образ жизни в монастыре вел к тому, чтобы вытеснить родных из его души. Феофан тоже стал замечать эту борьбу в душе ученика. Он видел, что душа Геннадия тянется к Богу и в то же время любовь к семье осталась самым сильным чувством в его душе, и тот никогда не уйдет из семьи.
Еще через полгода, боясь, что такое состояние его любимого ученика приведет к психическому расстройству или к религиозному фанатизму, Феофан неожиданно заявил Геннадию:
– Съездишь в дальний монастырь, договоришься о росписи алтаря и об иконе Богородицы и домой поедешь. Работать здесь, в мастерской, ты больше не будешь – дома работай. Сейчас в миру разрешили предприятия регистрировать, вот и будешь работать в собственной официальной мастерской. Комната, сам говорил, у тебя большая; после предварительных работ выезжай к заказчику в монастырь или церковь согласовывать вопросы, если таковые накопились. Если посоветоваться надо – заезжай ко мне, поговорим. Извини ты меня, старика, но большему я тебя научить ничему не могу, и так, все с тобой изучили, да и сам ты работал как подневольный эти два с половиной года. Теперь учись работать самостоятельно и жить продолжай по-христиански, а то там, в мирской жизни, соблазнов много. Спросят меня об иконописце – тебя рекомендовать буду. Только ты поступай по-христиански: монастыри и церкви, сколько смогут, сами заплатят – много их еще бедных, а восстановление их ой как разворачивается, большая потребность в иконах и в росписях ощущается. Можешь работать с частным лицом-посредником, а уж тот пусть, где надо, обо всем договаривается: так прибыльней будет, да и хлопот меньше, но незаконно это. Нужна будет рекомендация приезжай – дам. Решать тебе – выбирай свой жизненный путь. Верю, у тебя все получится, и я еще не раз услышу о тебе и порадуюсь твоим работам. И помни о глазах у святых на иконах, не забывай мои слова.
Домой Геннадий решил не сообщать, что совсем возвращается: пусть будет сюрприз. Накануне он и сам решил уехать из монастыря, но разговор с Феофаном избавил иконописца от трудных объяснений с учителем, почему он решил покинуть монастырь. Слово сказано не было – инициатива была мастера.
Дописав иконы (частенько работал и ночами), на что ушло еще недели три, Геннадий уехал из монастыря. Домой летел как на крыльях. Шутка ли, полгода дома не был, а три недели и писем не писал: заработался, выполняя сложный заказ. Поднимаясь на свой этаж, заранее достал ключи от квартиры. Вышел из лифта, глядит, а у его квартиры дверь входная новая: металлическая, с покрытием, видно, что дорогая, не то, что было раньше – простая деревянная дверь, которая служила еще с момента постройки дома. Сел на ступеньку лестницы и стал ждать своих. Как всегда, все пришли вместе часа через два. Дети бросились обнимать и целовать отца. Зина коротко сказала: «Привет», – и стала открывать входную дверь, не глядя на мужа.
– Пап, а ты теперь всегда будешь ходить с бородой и усами? – спросила Вика.
– Нет, дети, сбрею: я ведь из монастыря совсем уехал, закончил учебу на иконописца.
Войдя в свою комнату, он первым делом перекрестился на Николая Чудотворца, трижды поклонился иконе и поцеловал ее. Затем нежно и аккуратно погладил святой лик и вышел из комнаты.
– А откуда дверь-то новая? – спросил Геннадий.
Зина что-то собиралась сказать, но дочь опередила ее и скороговоркой сообщила:
– Дядя Коля подарил, он часто у нас бывает. Он хороший, он нам игрушки часто дарит.
Геннадий уже собрался было что-то сказать, как вдруг Зина повернулась к нему боком, и он заметил, что жена беременна: месяце на пятом-шестом. Как молнией поразило это Геннадия, и он, упав на колени в сторону иконы и непрерывно наклоняясь лбом до пола, стал благодарить Бога:
– Спасибо тебе, Господи, что услышал молитвы мои, и возблагодарил раба твоего Геннадия за иконописание во славу тебя…
Он хотел еще благодарить и восхвалять Господа за подаренное счастье, но вдруг услышал слова жены:
– Дети, идите в свою комнату и поиграйте там во что-нибудь, мне с папой поговорить надо.
Когда дети ушли Зина сказала:
– Не твой это ребенок, развожусь я с тобой. Хотела в письме тебе обо всем написать, но не решилась.
Геннадий выслушал молча, все также стоя на коленях. Затем он снова склонился до пола и замер в таком положении. Через несколько мгновений плечи его, а вскоре и все тело начали содрогаться то ли от рыданий, то ли в конвульсиях. Все происходило при полной тишине. Единственное, что с трудом удалось расслышать Зинаиде, было: «За что, Господи, за что?» Через некоторое время он затих и встал на ноги. Глаза его были красные от слез и, как на иконах, неживые будто смотрел он сквозь собеседника куда-то вдаль – куда вскоре может забросить его судьба.
– Дядя Коля?
– Да, – ответила Зина.
– Кто он? – спросил Геннадий.
– Директор наш, – решительно произнесла жена. – Он жить и зарабатывать умеет, не чета тебе. Только за счет него и продержались эти годы. Хоть и выучился ты на иконописца, а все равно много не заработаешь: ведь и бедным церквям, и монастырям помогать будешь.
– Буду. Бедность не порок. Порок – тело свое продать за земные блага, даже ради детей.
Оба замолчали.
Он смотрел на жену и видел перед собой уверенную в себе женщину, как будто только ей дано право решать, с кем детям лучше жить.
– Бог тебе судья, – произнес Геннадий и прошептал для себя: «И воздаст за твои грехи, только бы детей эта кара не коснулась.
Он молча отвернулся и пошел в комнату к детям. «Сколько еще мне их видеть? По всему видать, недолго».
Так началась вторая мирская жизнь Геннадия, даже не пытаясь слиться с его новой духовной жизнью. С этого момента он стал жить двумя жизнями, тщательно оберегая свою душу от какого-либо мирского вмешательства. К вере детей он не подталкивал: «Зачем им вера: они полностью воспитаны и живут в неверующем мире, без веры им будет легче в нем», – решил Геннадий, хоть, и щемило сердце от такого решения.
Гуляя по городу, он зашел на рынок и прошел мимо того места, где был раньше прилавок, за которым жена продала его первый рисунок. Прилавка не было. На этом месте стоял вполне приличный магазин средних размеров, и с улицы, через стекло, незамеченный никем, он видел, как деловито суетилась Зина, свысока обращаясь к продавцам – теперь тех было уже четверо. Он не мог не заметить, что все прилавки были уставлены бутылками водки разных сортов.
Рядом с магазином вертелся мужчина в рабочей спецодежде, и Геннадий спросил его:
– Здесь можно купить бутылку водки?
В ответ услышал:
– Не-а, алкоголь тут только оптом, от ящика.
Магазины по городу в те годы работали круглосуточно, и Геннадий с горечью подумал: «Ох, сколько же русских людей сопьются за эти мутные времена?»
Встретив как-то случайно бывшего сослуживца с завода, уже через три минуты понял, что говорить не о чем: завод его не интересует. Зайдя в случайное кафе перекусить, увидел своего бывшего зама Михалыча. Тот был сильно пьян и сидел, облокотив голову на локоть. Локоть постоянно соскальзывал со стола, и он с трудом водворял его обратно. Геннадий Иванович подсел за тот же столик к Михалычу.
– Здравствуй, Михалыч, – сказал он. – Как ты?
Тот долго мутными глазами пытался разглядеть собеседника и только через некоторое время наконец-то с трудом выговорил:
– А, Иваныч. Возьми мне в долг сто грамм самой дешевой водки. Я отдам.
– Что случилось с тобой?
– Сломался я, мил человек, совсем сломался, – ответил тот. – На многих работах пытался работать: и слесарем, и электриком, и даже сантехником, и дворником на разных предприятиях. Да только везде душу воротило, как вспомню, что на хозяина работаю. Запил. Сегодня с очередной работы уволили за пьянку, без выплаты зарплаты. Что я домой жене и детям понесу? Вот и сижу здесь, пока не выгоняют.
Геннадий Иванович заказал пятьдесят грамм водки и обед для Михалыча, дал денег администратору, чтобы того посадили на такси, когда в себя придет, сам есть не стал, вышел на улицу.
«Как так случилось, что этот мир стал для меня совсем чужой?» – все чаще задумывался он.
Пока жена оформляла бумаги на развод и искала подходящий вариант размена квартиры, жизнь Геннадия сосредоточилась в его комнате, где, закрывшись на замок, он находил гармонию в душе, отдаваясь полностью работе иконописца. Предаваясь иконописи, он забывал про Зину, вынашивающую чужого ребенка, оптовую торговлю алкоголем, бывший родной завод, Михалыча… Он помнил только, как дети при встрече бросились ему на шею.
Его душе не хватало столь маленького пространства и, главное, не хватало общения и писания икон рядом с единоверцами. При встрече со знакомыми никогда не говорил о том, что он верующий. Часто ездил по городским церквям смотреть иконы. Огромной радостью для него была встреча в одной из церквей с иконой, которую написал он. Иконы не подписываются иконописцами, но свою руку он хорошо знал. Около его иконы стояли и молились люди. Слеза стекала у него по щеке, когда он смотрел на молящихся людей.
Зашел в ближайшую церковь, батюшка узнал его, обнялись, расцеловались:
– Как же, как же, слышал о тебе много хорошего – ты теперь знаменитость.
– Благодаря Господу нашему и вам, – сказал Геннадий и развернул икону, завернутую в ткань. – Освяти, батюшка, эту икону я писал для вашей церкви…
Поняв, что суть его жизни теперь не в стремлении как можно больше заработать денег, а в выражении своей души через написание икон, он все делал сам, не обращаясь к частным посредникам. Сам ездил по монастырям и церквям, которые заказывали у него работы: икону написать, алтарь расписать или подправить. Благодаря Феофану, он был уже достаточно известен и мог позволить себе так жить. Только в поездках душа его наполнялась разговорами с монахами, священниками и особенно с иконописцами. Все это были люди, которые говорили на одном с ним языке и имели одну веру.
Он понял, что его возвращение домой было ошибкой: материально все в семье было в порядке, а чувство одиночества неуклонно вело его к алкоголю. К тому же участковый милиционер стал им интересоваться: ведь по трудовой книжке он нигде не работал, и значит, был тунеядцем. «Интересная ситуация, – думал он иногда. – Известный почти на всю страну иконописец, по закону – тунеядец. Нет, чужой для меня этот мир, чужой». И он устроился учителем рисования в одну из школ на полставки вести факультативные занятия по изобразительному искусству. Интерес современных школьников к этому предмету был крайне низкий, и Геннадий фактически имел много свободного времени.
Через полгода такой жизни бутылка стала его незаменимым собеседником по вечерам. Он не ходил по барам и ресторанам, а покупал водку в магазине. Приходя домой, говорил детям, что устал и ложится спать. Запирал дверь в свою комнату и… пил.
Вскоре возникла необходимость посоветоваться с Феофаном по поводу написания одной иконы: глаза получались не то, чтобы живыми, но злыми. Геннадий даже сыну Павлику показал эту икону и тот подтвердил:
– Красивая икона, но взгляд недобрый, будто святой этот на весь мир обижен. А как зовут святого, пап?
– Звали его, сынок, Серафим Саровский – в народе один из наиболее чтимых святых, – ответил отец.
– Почему же тогда глаза злые? – спросил сын. – Ой, пап, и на этой иконе, и на этой, а вот еще…
«Да, сынок, правда в твоих детских устах, а я и не замечал», – думал отец.
– Ладно, сынок, иди, погуляй, а мне еще поработать надо.
А у самого в голове уже начала появляться кое-какая навязчивая мысль, и он твердо сказал себе: «Надо ехать к Феофану, надо».
Предупредив с вечера на всякий случай Зину, что ему надо в монастырскую мастерскую проконсультироваться, и детей, что ему надо ехать в командировку, на следующий день, с рассветом Геннадий тихо вышел из своей комнаты и направился к входной двери, но в этот момент за спиной у него открылась дверь комнаты бывшей жены и она спросила:
– Ты в монастырь? Навсегда?
– Буду проситься. А там как Бог даст.
Услышав ответ, она тихо заплакала, упершись локтями в стену коридора, плечи ее вздрагивали, а головой она мотала из стороны в сторону. Она не хотела верить в то, что ответил муж, но и слов подходящих не находила. Наконец с трудом выговорила:
– Прости меня, Ген, если можешь. Виновата я перед тобой. А любила я только тебя.
– Бог простит, – ответил Геннадий. – Но помни, что я вас всех по-прежнему люблю и любить буду до последних дней своих. Не забывайте меня.
Он тихо прикрыл за собой дверь квартиры и с завернутыми в полотнище несколькими иконами поехал в монастырь. Среди прочих он взял с собой и бабушкину икону Николая Чудотворца, завернутую отдельно. Ехать было недалеко от города, и к обеду он уже добрался до монастыря.
Феофан был в добром здравии и в хорошем настроении. Обнялись, расцеловались по-православному: оба были очень рады встрече.
– Посоветоваться надо, вот иконы привез… и поговорить, – сказал Геннадий.
– Разговоры потом, сначала иконы смотреть будем, – ответил старец.
Феофан разложил иконы на столе так, чтобы они все разом видны были. Долго смотрел на них задумчиво и хмурился. Наконец сказал:
– Прекрасно написаны, и рука твоя видна: ни с кем другим не спутаешь.
И неожиданно задал вопрос:
– До водки дело еще не дошло?
– Дошло, – виновато опустив голову, ответил Геннадий. И рассказал Феофану все, что произошло с ним и с его семьей за последнее время.
– Значит, не нашел своего места в той мирской жизни, откуда ты ко мне пришел. Понял теперь, почему ты все сам делал, без посредника: занять все свое время хотел, да вот только пустоту в душе ничем занять невозможно. На моей памяти много историй иконописцев-одиночек, оканчивающихся водкой, а ведь мастера были потверже тебя в вере и таланта побольше, да одиночество вещь страшная и может перейти в болезнь душевную неизлечимую. Ты когда здесь в мастерской работал и веру постигал, я уже тогда понял, что мечешься ты между верой и мирской жизнью, и попытался сохранить твою семью, сказав тебе, что, мол, дома работать будешь. Но не вышло из этой затеи ничего путного.
Феофан надолго замолчал, нахмурив лоб, что-то вспоминал или решался, говорить, или нет. Думал он о своей тоже не сложившейся семейной жизни в миру, о чувстве одиночества, съедавшего тогда его изнутри, о непонятости окружающими его близкими людьми, о запоях, о том, как в конце концов без сожаления решил уйти в монастырь – уйти навсегда из мирской жизни. Посмотрел на Геннадия и так и остался стоять молча: нечего ему было сказать.
Неожиданно, прервав затянувшееся молчание, тихо прозвучали слова:
– Я хочу стать монахом вашего монастыря и работать в твоей мастерской, Феофан.
– Ждал, что ты именно это скажешь: по злым глазам на иконах, что ты показал, все было ясно и без твоих слов, не может человек жить и творить с одиночеством в душе, – произнес Феофан. – Что ж, не ты первый, не ты и последний. Иди, работай, твой стол свободен. А насчет монашества – не такое у тебя горе, чтобы вот так сразу из мирской жизни уходить, хоть и потерял ты все, что любил, но ведь бывает, люди начинают заново устраивать свою семейную жизнь. Поживи в монастыре, работай в мастерской сколько захочешь, трудник это у нас называется, а там видно будет, на все воля Божья. Но имей в виду, что любовь твоя к детям велика, а вера твоя еще слаба, раз простить жену не смог. Ты еще молодой, можешь жизнь заново начать. Завтра к настоятелю монастыря пойдем: там все и решится. Все! Иди, работай.
Геннадий расцеловал Феофана, не заметив, что у того слезы текли по старым и дряблым, морщинистым щекам, и сразу же направился в мастерскую. Сев за свой рабочий стол, сразу же написал письмо семье: сообщил, чтобы не волновались, что он в том же монастыре не далеко от города. Про то, что решил уйти в монахи, ничего не написал.
Затем положил голову на стол иконописца, обнял его за края во всю его ширь обеими руками и подумал: «Вот она благодать, ниспосланная мне Господом».
И еще подумал: «Надо бы старую бабушкину икону Николая Чудотворца отреставрировать».
Крещенские морозы
Как-то в августе, лет десять тому назад, дела вынудили меня поехать в дальний областной городишко. Ехать было часа три. Электричка была ранняя, и пассажиров в вагоне набралось от силы человек пять-шесть. Путь предстоял долгий, и, войдя в вагон, я сел напротив мужчины лет пятидесяти. Он сразу представился:
– Федор Емельянович.
Я тоже назвал себя.
– Далеко, Федор Емельянович? – спросил я, чтобы завязать разговор. Морщина, пролегшая вертикально на лбу, словно шрам от казацкой шашки, лицо худощавое, сам поджарый. На нем клетчатая простая рубашка, брюки неновые, но опрятные, а во взгляде и в выражении лица – тихая и уверенная правота в чем-то своем, которую видно сразу навязывать никому не будет, а скорее замолчит, если спор какой пойдет. Видно: мужчина основательный, сидеть сложа руки не в его характере и, что бы не делал, делать будет на совесть. Руки у него морщинистые, работящие; о таких мужиках в деревнях говорят: «На все руки мастер». Да и по лицу видно, что пережил за свои годы немало и свое понятие обо всем имеет.
– Да с час ехать, – ответил он и назвал станцию, рядом с которой небольшой поселок, домов на семьдесят-восемьдесят, из тех, что возникли уже после войны – годах в пятидесятых-шестидесятых.
Знал я этот полустанок: не раз приходилось проезжать мимо. И каждый раз, если дело было весной, с радостью смотрел на буйно цветущие сады, скрывавшие от наблюдателя дома, дороги, заборы. Кажется, что все это один огромный цветущий сад; красивое место и запоминается надолго. А запах! Даже здесь, в электричке, в пору цветения пахло просыпающейся природой. Волей-неволей вдруг встрепенешься, скажешь про себя: «Весна-а-а!» – и вздохнешь глубоко и облегченно; потом улыбнешься, думая: «Вот и на этот раз до зеленой травки дожили!»
По тому, как он доброжелательно ответил мне, понял, что не ошибся в попутчике. Мы разговорились о том о сем, как обычно бывает между случайно и ненадолго встретившимися в дороге.
Пока электричка еще не отправилась, в вагон вошел моложавый на вид человек, но возраста неопределенного, одетый по молодежному броско, небрежно. О таких раньше писали: «Вечный студент». Джинсы, ветровка походная, глаза острые, язвительные, на лбу и в уголках рта уже мелкие морщины, короткая реденькая бородка, а по бокам щек пушок, и держится сам, как мальчишка, который старается казаться взрослым, в общем – «вечный студент».
– Игорь, – представился он и подсел к нам.
– Далеко путь держите, Игорь? – спросил я.
– Да так… – отмахнулся он.
Может, я и ошибся, но мне показалось, что он из тех, кто полжизни будет думать, куда путь по жизни держать, а там уж и выбирать будет не из чего, да и некогда: прошла жизнь – и покатится остаток бытия его, как перекати-поле, куда жизнь выведет.
Минуты за три до отправления электрички в вагон вошел старичок. Живенький такой, седой весь, от макушки до бороды, даже брови седые, с не сходящей с лица добродушной улыбкой. Ни дать ни взять – Лука из пьесы Горького «На дне». Оглянулся на пустой вагон и к нам обратился:
– Можно с вами, православные? Все ж вместе веселей ехать будет, – и перекрестился.
– Ты из поповских, что ли? – спросил вечный студент.
– Был из поповских, теперь из расстриг, мил человек, буду, из расстриг.
– А чего это ты, дед, нас всех сразу в православные записал? – заносчиво спросил Игорь.
Поезд уже тронулся, и мы с Федором Емельяновичем исподволь стали слушать эту перепалку и ждали, что будет дальше.
– А какой же ты, мил человек, веры будешь? – спросил дед.
– Да никакой! Неверующий я, атеист, и в сказки, которые попы уже тысячи лет рассказывают, не верю, – небрежно ответил Игорь.
– Атеист? – это уже серьезно: он ведь против всех верований, а не против одной какой-то, он против самого Бога, как бы его ни называли, – вполголоса сказал Лука (так я его мысленно окрестил) и, сощурив глаза, с хитрецой спросил:
– А вы, молодой человек, Евангелие читали? А может, Ветхий Завет или Коран, или Тору? Или Трипитаку? А может, Конфуция изучали?
– Нет… Камасутру читал, – зло отрезал Игорь. – И давай, дед, закончим на этом!
– Закончим, так закончим, – ответил дед. – Только ты вот о чем подумай: верующих я много за свою жизнь встречал, а вот атеистов – ни одного! Это ведь сколько надо прочитать и знать, чтобы все веры отрицать? Нет, я таких людей не встречал. Отрицают все огульно – вот и весь атеизм твой! Таких много, как ты. Значит, не тянется еще душа к Истине, не пришло еще ваше время понять ее. Мало пожили, мало жизнь нагибала… Ну да это дело наживное, – путаясь, то на «вы», то на «ты», закончил дед.
– Ладно, поживем – увидим, – задумчиво сказал Игорь. – А вот ты, дед, скажи, почему, кого у нас ни спроси, какой он веры, все отвечают, что православной, а сами Евангелие только и видели, что в церкви да у своей бабки на полке?
– Традициями народ живет, традициями и стоит на этой земле. И не только у православных так, а каждый народ традициями живет, сохраняя и себя, и обычаи своего народа, и память о своих предках, – произнес старик, – не позволяя пропасть и затеряться даже маленькому народу среди прочих.
– Да ты философ! – удивленно сказал Игорь.
– В науках не силен, врать не буду, а что насчет веры – много чего читал и размышлял, много чего рассказать могу, – ответил старик.
– За что же расстригли тебя? – насмешливо спросил вечный студент.
– Отвечу, хоть и молод ты еще – боюсь, не поймешь, – тихо сказал старичок. – По молодости все мне было интересно: мусульманство, буддизм, конфуцианство. Изучал и другие религии. Хотел понять, чем веры между собой отличаются и какая из них самая правильная. И понял я, что Бог один, только имен у него много! Вот за это и расстригли.
– Ты крещеный, Игорь? – спросил дед.
– Да, крещеный. Мать тайком от отца крестила. Отец при прошлой власти был членом партии, потому и тайком, – сказал Игорь. – А вот что я не пойму, дед, так это то, зачем Иисус крестился: ведь не было на нем ни первородного, ни других каких грехов?
– А говоришь, что знать ничего не знаешь, атеист, мол! Хороший вопрос задал. Вот и поищи сам ответ на свой вопрос о таинстве Крещения! – с прищуром ответил дед.
Затем старичок повернулся к окну и стал смотреть на мелькающие мимо дороги, на людей, на перелески, на деревушки. И стал он думать о чем-то своем – наверное, о вечном и главном. Утих разговор, только слышно было, как бабка внуку своему что-то все выговаривала в другом конце вагона да двое мужиков в карты перекидывались, потягивая пиво. Перестук колес на стыках рельс медленно, но верно нагонял на пассажиров сонливость.
На ближайшей станции, где известная обитель была, дед сошел, попрощавшись со всеми. «Паломник», – подумал я.
Некоторое время ехали молча.
Вдруг Федор Емельянович подвинулся ближе к краю скамьи, выдвинувшись вперед, и сказал:
– А расскажу я вам свою историю, почему я два дня рождения праздную: второй – в Крещение! Только не перебивать, договорились?
Голос у него был тихий и уверенный – сразу видно, что человек быль рассказывает. Мы с вечным студентом одобрительно закивали.
Хоть и прошло с тех пор много времени, но ту историю я запомнил хорошо.
Помолчал немного Федор, собрался с мыслями и начал свой рассказ.
– Шел мне тогда сорок девятый год; до пенсии далеко, работать еще да работать. И случилось мне в областную больницу угодить, по случаю: под машину попал.
– Выпивши, что ли, был? – спросил вечный студент.
– Нет, Игорь, не пил я! Не то чтобы я праведник – и со мной такой грех случается. В пятницу после рабочей недели выпил немного, было. А с утра – ни-ни! А случай тот произошел в субботу! Да ты слушай, не перебивай, договорились же!
Палата досталась мне шестиместная, а лежало нас там всего четверо: я – в гипсе от шеи до пояса; молодой таджик со сломанной ногой (на стройке работал, ну и свалился в шахту для лифта: оступился, чудом живой остался: в центре шахты, внизу, пружина посередине была, попал бы на нее – насмерть разбился); еще в нашей палате лежал парень молодой, совсем мальчишка. На дельтаплане друзья уговорили полетать, так с первого раза его ветром и понесло на лес – перелом позвоночника. Ох, уж и тяжко ему в больнице было: лежать только на спине разрешалось, вставать или сидеть нельзя. Четвертым в нашей палате был Николай – «фирмач», как мы меж собой его звали, – владелец транспортной компании, с опухолью коленки. Этот частенько искал, кто бы из ходячих больных в магазин сходил за коньяком. Большой любитель коньяка был и толк в нем знал. Бывало, как начнет о коньяках рассказывать, – заслушаешься. Деньги у него водились; думаю, из-за него-то и было в нашей палате только четыре человека вместо шести.
В тот день нашей палате повезло: Катя, санитарка, с утра начала уборку именно у нас. Смешливая и добрая девчонка. Как мать померла, – отца она и не помнила – переехала жить к деду по материной линии. Сама еще не работала, на дедову пенсию жили. Как-то лампочка в люстре перегорела, встала Катя на стул, потянулась к люстре, а дед вдруг подошел сзади и обнял ее за ноги, да под юбкой. Поняла Катя, что житья не будет здесь, у деда; собрала свои вещи и к подруге – ночевать, а вскоре и в областной центр поехала на заработки. Устроилась в эту больницу санитаркой.
Как-то попросили ее ночью подежурить. Тихо в ту ночь было, вот и зашла она в нашу палату. А мне гипс проклятый никак заснуть не давал. Подсела она на мою кровать, рассказала свою историю и спрашивает меня:
– Федор Емельянович, разве так бывает?
– Забудь, Катенька! Ну, взыграло у мужика, как говорят, мол, бес в ребро. А уехала правильно: может, дед твой и неплохой мужик, но раз так случилось, то правильно решила не искушать.
Да и что лукавить: все при ней было, такая крепко сбитая сельская девка, икры сильные, красивые – такие мужикам нравятся. Как начнет тянуться куда-нибудь, чтобы пыль вытереть, или нагнется полы под койками мыть, так вся палата замрет в тишине: юбка-то сзади приподнимается чуть-чуть; мужики, кто прямо смотрит, а кто косится. Катька знала это, но делала вид, что не замечает: молодая бабья кровь в жилах играла. Даже и меня такие виды за живое брали, хоть и не пацан давно, повидал в жизни, а как поползет юбка вверх и оголит ноги выше колен, так перехватит дыхание, да и воображение остальное дорисовывает. Дорисовывает, и все тут, ну никакого удержу нет. Хороша! Кому в жены достанется, счастливый будет: не только с телом, но и с душой девка была.
Почему повезло, что она с утра пришла? – Объясню: как к вечеру придет палату убирать, так потом мужики полночи успокоиться не могут, все бабью тему обсуждают – ни почитать, ни поспать, ни подумать о чем. Я ведь по сравнению с ними старик, а и то нет-нет да втягивался в эти разговоры, да так, что бабья тема до утра не отпускала.
Дело было к вечеру, потянулись посетители: родственники, знакомые, сослуживцы. Пришли к Славке – это тот, что на дельтаплане прокатился, – пришли мать его и девчонка молоденькая, Машей звали. Мать привела лечащего врача и все у него расспросила: как лежать, как есть, какой уход и лекарства Славе нужны. Долго потом она Машу наставляла. Ну, думаю, невеста, не иначе. Маша каждый день приходила, а часто и ночами около Славы дежурила; две кровати у нас свободные были.
Как-то встретились с мамашей Славы в курилке – так у нас «предбанник» мужского туалета называли. Сразу подумал: «Неужто лень до женской половины дойти, что в другом конце коридора? Или наглость?»
– Маша–то невесткой, что ли, будет? – решился спросить я эту даму.
– Еще чего! Невеста у него из хорошей обеспеченной семьи, а эта… – пусть надеется, пусть ухаживает за сыном, убирает да подтирает за ним! Той некогда: в университете учится, – ответила дамочка.
«Ну, не все в твоей власти, – думаю, – от молодых все зависеть будет. Горе вместе пережить? Да к тому же благодарность и преданность – они ведь дорогого стоят. Ну а случись, что Машину любовь только и используют для выхаживания, так от такой семьи бежать надо! Тяжела обида будет, да переживет!»
Ко мне редко кто приходил, и то – только по выходным, а то был будний день, и я никого не ждал. А тут вдруг дверь быстро открывается, Катя заглянула – косички две торчат по сторонам головы, как у школьницы, – и скороговоркой выпалила:
– Федор Емельянович, Федор Емельянович, к вам пришли, – оглянулась. – Вон по коридору идут. Я им объяснила, как вас найти.
И исчезла за дверью.
Гляжу, через минуту, постучав в дверь и не дождавшись ответа, вошли двое: высокий молодой парень и старенькая женщина. Вошли, поздоровались со всеми и, осмотревшись вокруг, направились к моей койке – видать, Катя им про гипс, который до пояса, рассказала. В руках у молодого парня был пакет, и сквозь него просвечивали то ли апельсины, то ли мандарины.
– Здравствуйте, Федор Емельянович. Меня Сергей зовут, – подойдя поближе, сказал парень. – А это, – он махнул рукой, – бабушка моя, Алевтина Ивановна.
Таджик на одной ноге допрыгал к моей кровати со стулом; Алевтина Ивановна села. Была она типичной русской женщиной из российской глубинки: ситцевый халат, платочек, руки морщинистые, крестьянские. Видно, что руками этими дел она переделала, – на три жизни хватит. Пальцы уже и не разгибаются до конца – видно, что болят, как и у всех русских женщин к старости, кто на земле работает.
– Бабушку зачем за собой потащил? Для моральной поддержки, что ли? А я ведь тебя сразу узнал: рот твой перекошенный да ужас в глазах через лобовое стекло – последнее, что и помню. Что же ты… (еле сдержался от крепкого словца, а про себя все ж подумал) бросил меня одного на дороге без сознания?
– Если бы бросил, так меня, может, и не нашли бы, а так – вокруг никого, трогать вас нельзя: вдруг позвоночник поранен. Позвонил со своего телефона в скорую и уехал. Не в себе был, ничего не соображал: вторую смену подряд работал, уже заканчивал, потому и наехал на вас – зазевался, – тихо объяснил Сергей.






