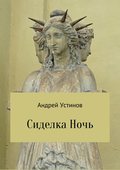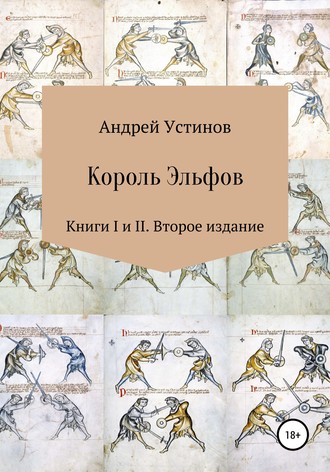
Андрей Устинов
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Не особливая, но как молвить? Худая и смердная, как все в этой стране, и с липкими космами вместо связных косиц, и с грязными коленцами, и со свежим, розовым ще бланшем на щеке, сильно бросавшимся в очи, аки пимпернель. Но то – земное. Но глаза… так ли живописала мне кормилица глаза Глаховых страждиц? Тех, что живны живмя среди люда простого, а он ихними глазицами глядит, ежели хочет, на наше бедственное бытие. Глаза большие, и обыкно голубые, но темно-фиалковые, коли Глах вникает через них в наши грехи. И каждый гадский неглах, каждый нетопырь щекастый норовит красоту их отнять и выесть, а она и не их, и страждутся те девы всю короткую жизнь…
Сзади ней уже несся по воздуху сыто-пьяный гогот и кабаневый, гонный пот будто предшествовал появлению ейных угнетателей. И девчонка, так зацепившись за корневые витки, бухнулась в бурую мокрую траву на колени передо мной, не царапаясь и не просясь, а толь поклонила голову и откомнула вбок темные космы, обнажив худую шею над острыми позвонками, уходящими в грязную робу, и пискнула что-то на свойной мове. Просила рубить? Еще пискнула – что-то там заради Метары. Може, она Метарова страждица и была?
Но я уже шагнул ширче мимо нее, вытягивая со свистом ноженец, ибо увидел с превеликой хвалою сердца, что два вепря, охочие до ней, выказались Сержем и младшим покрыльником, вечным прохвостом тойной сволости. И описал я клинком яркое полукружие, будто оторачивая смертную делянку, заворожив их отяжеленные толь-толь испитым бражием взоры, полные недоверия моему мятежу… и ложно махнул на покрыльника, и тот отскочил запинчиво, а я легко упал-перекатился, да под опешившего, грузного от сидра Сержа, и соднизу ткнул ему бодцом под доспех и выпрыжнул… а-а! – покрыльник уже напал-таки и тоже проколол вроде бы бок (чудно, и не больцевато!), но было некодь отшагивать – где-то огромная толпа взревела за хатами, – и я прямо пошел боком на меч покрыльника, не давая вытащить и чуя его ржавый желчный хлад, и думая: может се и езмь последний вздох? Но что же ты должен делать, если уходишь – только быть как воин! Как отец погиб – с молитвой и воем! И так я навалился боком на покрыльника, зарябившегося вдруг густым потом и вцепившегося бесцельно в меч, и ноженцом просто как петуху, за которым тот курахтался от обоза, как горластому петуху перерезал ему глотку, и отшагнул от падали, чуя, как рвется бок… в фонтане и егожной гажей крови и, от пояса родничащей, своей родной, тойже гневно-бурой… шаганул к чуй-стающему на колена Сержу, и выдал-та по харе, спеша, пока была сила в кривом каблуке, и споро-споро, ведомый кровопенным туманом в голове – ахах-ха! ааа! – срезал с черта защиту, воскрыл мерзкие волосатые ляхи во гнойных-то прыщах! – и отполоснул – а, ору-то сладкого, ору!!! – в три рваных удара отполосил чертов палец и а-а-а! так суванул кровулину гаду в прямо в его ротозейную щель, сквозь пробитые-то зубья, чтобы не орал-то, и вбил еще последним ударом пяты ему в глотье и что-то кричал, причитая насмешно:
– А!!! Кахто тут петушок! Кахто сосунок! А!!!
И подошвой, тертой уж до ступни, вбивал/втирал ему в гнилое разгубье всю собью вытекавшую из бока желчь, покаль не увидел толпу мужланов-болотников, мчащую за тремя расхрыстанными содатиками, покась не увидал, как первого токнули глупчика Щербу, аки вот каплуна, тонкой вилой, пока не прошлась толпа топотом по двумцам обозникам и не распластала их под лапотцами, и пока не киданулась и до меня черным роем (а я что? да ждал просто! от мужичья ли драпать?), пока не закричнула сзади девчонка на дичьей высокой мове, отгоняя глахоборов, и пока не проголохотала толпа мне за спину – на щемные крики, визжевые крики ещё резаного отродья за бугром, где самый обоз, пока не глянул прощальниво в темные глаза девчонки-Метары… покаль не сплюнул ненависть в сырую лебеду, и не поковылял, страждно зажимая бок, в сторону потерявшего солнце леса…
…
…так я и брел, и не помнил толком пути: где-то перетаскивался через водотечу и гробанулся – ах, да тело заплелось ногами! а очумился уже когда рваным боком да на обломанный стволец, и взвыл аки волк на красную Луну…
…где-то шагал на кочку, поросшую рыжим мхом, и с лишайной бородой на холодную сторону, и так походила на гнома-кузнеца из войскового стана, что загляделся изумленно – да тут-то он откуда? – и промахнулся сапогом, и снес кузнецу пол-хари разбитым каблуком и угодил еще в яму по колено, так что и лицом приложился с разгону в вялую лужицу с водомерками, то-то и воскрес!..
…и шумели вдруг в голове подробия схватки: опять я подкатывался под сс-сержа и щипал его, кк-квохчущего, аки кочета, и опять девчонка-Метара смотрела на меня молчаливыми фиалковыми глазищами, расцветшими на лугу…
…и, поскользнувшись на скользких шишках, ткнулся вдруг лбом о худую сосну, сам набив знатный шишак, но хотя бы опомнился и оглахнулся: что же, закружился? Опять вон водоточина и кочка вроде та же, облысенная мойжим сапогом… что же?..
…и глахнулся опять, так губошлепнулся прямо в камень невидный, что зубья врозь…
…и лежал плашмя в холодецкой луже, пошедшей краснотной кровушкой от моей бочины по зеленой взвеси, и обдирал кровящими зубосколами подмерзший брусничный куст, и было горько в гортани и горько в боку… но вроде ободрился и что-то стал прикидывать: не напролом, а надоть водоль водоточины, токоть не к селу пограбленному, а в холм, и там бы поляну сыскать, да чтобно ширшие листы подорожника, взросшие на осеннем солнце, насобрать и обложиться, где рвано, и може до утра докимарить, а там…
…еще сидел как-то, свесив ноги в ручей, пошедший песком, передыхивал… видел там мелких уклеек или как там, но поди-ка… а разве вот? Курткой пошел как бреднем, и выпростал-таки на бережок пару пужливых серебристых рыбиц, и пал на колени ловить их, скользких и прыжливых, и так и закусил, в песотне скриплой завалянных, с башкой и нутреностями (всяко слаще жабы!), и заел еще мерзлой брусникой, и порадовался солнечному лучу и ухмыльнулся фиалковым ясноцветьям, опять глазеющим на меня поверх опалой листвы, и пошагал опять, зажимая ноющий бок…
…и вот уперся в темный совершенно ельник, откуда лилась журчливая водовода, и так решил: таки надо в холм, искать истоку, а толь на вершину выйти, должнать плоская быть и с полянами, – и пошлепал прямо сапогами по ручью, а хоть и холодно, только побрежно и вовсеть непролазно, но ох! в сапогах и так хлюпица после болота, и палец, что выбился, больно уж мерз…
…и вот сколько брел? Было темно в ельнике и холодно, и куртка влажная тяжко холодила, и ноги сводила судорога, и уже знал, что никуда до света не добреду…
…вот до того камня…
…вот до того ствола поваленного, еще лезть через него как?..
…вот до той расплесы, и еще не омут ли?..
…вот до корня, торчащего поперек…
…ааа! Ааа! Увидал вдруг волчьи глаза, злоблестючие, в ивовом кусте – видно, водопоился, но тут же ощерился и зарычал и кровушку мою почуял, по брылам заслюнившимся чуя!
И я, голохаясь и брызжа, полез из ручья на вязкий берег, и вверх под елки-иголки, малость расступившиеся, но куда-то в совершенную глахову тьму, и крутился по мхам-лишаям, скользя левой совсем порвавшейся подошвой, чувствуя полную грязь в пальцах, и вжичил кладенцом налево-направо, отгоняя злостные глаза… ах! казалось из-за каждого кривого ствола заблистали. И слышал, да, волчьи взвывы позади, и слышал почти их мягкий ход и чуял почти зловестный их дых, ибо ждали моего падения, чтобы кинуться и горловым яблоком моим поживиться (говорят, Глахья сила в нем!), и как вот было смертно-холодно только что, так вот стало смертно-жарко, и бок запылал, и дыхание закипело белым паром в ноющном воздухе, будто ветер бился, пойманный в этих елках… и сердце рвалось, как я рвал куда-то в холм, кружась и отмахиваясь, то и дело шлепая кладенцом по тугим стволам, так что рука онемела держать. Но держал крепко и как-то бежал, отстранившись от тела сознанием и зная, что скоро паду на коленца, и в панике беспомощной. И как спастись-то, завиться ли в дитячий клубок? А тело-то – не! крутилось еще, пиналось и бежало, глаза зыркали суматошно, выищивая, куда под какие ельи лапы занырнуть, куда проход видится, где чуть светлится что-то надежное во всей этой тьме.
И вырвался вдруг – ах, Голох мой! – на поляну широкую, где летом цвел дербенник, полегший уже вялыми ветлами, и во центре высился тотемный кой-то столб, немного все же накось, и я знал, что выпал на капище чье-то, и волки завыли обиженно назади, ибо не было им хода к людским богам! О Глаше! И выбросил за кусты кладенец – кто же к богам с угрозой? – и рухнул, обессиленно плача, по-телячьи мыча убереженным горлом, обнимая столбину, все ее росщепы-занозы оглаживая ладошами, будто только и живыми из всего моего молодецкого тела…
…
…очнулся, и не знал, где я. То ли на небе, где Метара дает вечные танцеваны? Ах, как была кормилица права! Ибо был я вроде еще и у тотема, чувствуемого спиной, но не видел леса, а будто бы в широком зале со звездами на потолочье, и дивные эльфы танцевали вокруг, с послушными светляшками в руках и на обручах лобных, и вышла вдруг царица, по ширшему обручу судя, и Луна, бывшая в тайном облаке, вдруг только в нее одну ударила лучом, и увидел я пред собой ее белое лицо, нежно-овальное, само как соцветие ночной лилии, где и уста вязкие, что губят доверчивых молодцев, и тонкий царский мег (ах, ну нос по-человечьи!) аки волшебная тычина, и черные глаза, где тонут каменные даже города… черные даже во блесткой Луне.
И коснулась щеки моей, грязной-то, в струпьях от комарьев и скверной лагерной бритости, своей белой прелестью, и обняла голову мою мягкими ладушками, нежными как младенческое счастье при материнском слове, и шепнула что-то на ухо – что-то волшебно-эльфийское… и Луна пропала, и Она пропала в тот же миг.
Но будто жизнь заново хлынула в меня, вымывая всю жабью пустоту, что заполонила давеча мое нутро, и все тело ожило было бодро, и отозвалось немедля каждой болящей частицей, так что весь я стал от пяты до зубца как будто из боли. И думал только: ах, зачем Она оживила меня, если оставила в этой боли умирать, теряя себя лист за листом на влажном ветру?
Далеко за пределами чистого круга завыли волки, кто-то из эльфов, смеясь, кинул в них светлячковым ворохом росы, и в распеленутой музыке звезд – которую я вдруг услышал! – я лежал и умирал. А вокруг, иногда почти касаясь меня рукавами легких тайных плащецов, танцевали эльфы.
4
Вот так я и попал к Элизеру. Вашему веку – и особо вам, питомцам Метары! – имя его известно широко, могущество его легендарно. Но не побоюсь признания: я не любил его тогда…
О, я был благодарен до поры до времени за спасение и все такое. Заискивал его похвалы, как ищете вы благосклонности старшего ментора, ждете тщетно признания ваших успехов. Но был он слишком непостижим для детского разума, а можно ли любить непостижное всем теплом души? И потому прошу сейчас прощения. За то, что Элизера – не объять словом. За то, что будет изображен он весьма отдельными гранями, как… знаете? Как ваше изображение в дражайшей призме на скоморошной ярмарке, пошедшее цветными лоскутами! Но жизнь прожита так, как она прожита. И было бы прикрасочно для меня рисовать того Гаэля более сметливым, более правдивым, более благородным.
Но достаточно сказать: я не любил Элизера тогда, но люблю сейчас.
Я спохватился от жаркого света, так еще и бившего в очи осквозь крашеную ситцевую занавеску, что тело все, опережая осязанья калечий, будто полнилось желтым пресчастным туманом. На падужке сей вышились золотые затейные руны, доподлинно живые – аки рыщущие по высокой волне паруса-полотна Коголанских шебек! Славливая вздохи ветерка из-за фрамуги и расплетаясь затем по комнатке яркими жовтневыми выдохами…
– Ах, вы проснулись, сударь! – вознесся от угла (верно, я и спохватился ее шагов?) чистый девичный глас, тоже солнцедарный, желтый и яркий, как медовый одуванчик. – Но остерегитесь, пожалуй, резкостей, вы еще недостаточно славны!
Вольная высокая речь, ах, не родная Коголанская, но ей же штильная, какой в Метаре оттоль прибытия не слыхал, причудила, будто и в Элизиуме уже? Но нет – аах! Болесть в боку потянула желостью при первом же порыве к Ней… и я неуклюжно заерзил вполоборота, морща напотелую простынь. Но тянулся-тянулся через солнце в глаза, радостно, и – ох, Метара! – тщась-таки углядеть заботницу и постыдно краснея от немощности. И еще зардел боле, когда дева (cher grisette!) явилась в мой кругозор.
Ах, но ее звали Летта! Так она открылась абье (ну, немедля), но имя ее – будто бы я почувействовал ще при первом вздохе… Почувействовал! Ах, что за слово! В легкой зеленой хламиде с открытыми руками, сугубо домашней, и столь нечинно явилась передо мной! и руци – малые, загорелые, яркие, что плоды арменики, и – знамо! – востоль же нежные! и черные развейные волосы, но не в публичном бесстыдстве, а в шалом ротозействе лета и зефира! и тож зеленые глаза, ай-да заманные в поляны, где под нижними листвами сокрыты сластные ягоды полуденицы.
– Ах! Не извольте озорничать, сударь! – она уняла мой порыв, тронув тихо за плечо и пряча нежность-сладость за качнувшимися ресницами (ах, рифмическими!), но улыбаясь почитай несознанно. Ах, и голос, певчески славный, воспрял еще на диез выше. – Пожалуйста, мы не чинно знамы для нежностей! И рана ваша, как извольте чувствоваться, не столь еще ладна!.. Будьте же ласковы! – ладушка улыбнулась ще открыто, ах, всей дивной сутью, легким обликом пересекая солнечный луч, и будто солнцем же разбрызнулась… расплеснулась на берестовой столешнице под ситцево-золотым оконцем россыпью синих цветиков из цебарки, что тихонько звякнула затем у ее ноги.
Ах! Медуничный нектар, разбежавшийся по комнатце, так сластно защипал под языком, что я, кто по жизни и не говорун дамский, кроме детской болтовни с сестрицей, не мог теперь хозяйку послушаться, сам-то, аль садовый соловей, заслушиваясь себя:
– Ах, но какой вы фамилии? Вы такая, ах, если позволено молвить, душистая… Mademoiselle! Вы сочтете меня, ах… un mafle, insolent, что прежде представления внемлюсь о вас. Но такая прекрасная, ах… rose en fleur, поймите, я чувствуюсь в саду, ах… знаете, le jardin d'Éden, и не можется мыслить прочее, едва ль вдыхаю нежный воздух, которым, быть может, тремя вздохами назад дышалось вам! Ах, вечное расстояние вздоха! А ваши милые локоны – простите, что немлю о глазах ваших, но, voyez-vous, вы не смотрите! Ваши локоны – ах, суть вечный водопад Стиксеи, богини клятв, которые…
– Ах, сударь, вы немало кажете образованность! – смеясь, отвечала красавица, наконец оборачиваясь ко мне: ах, даже блестели веки! – Но поклянитесь мне пока слушаться моих врачеваний! S'il vous plaît, добрый рыцарь, вернитесь на правый бок! – И, сама едва веря себе, но зеленясь глазами ярче эреландского колокольчика (ах, помните ли, учили мифические цветы в ликейоне?), склонилась ко мне, абы фея, и тепло целовнула висок: – Меня зовут Летта, сударь. Ну же, s'il vous plaît!
– Но я, простите, – я отвечал, сконфуженно открываясь ее руке, – вовсе не рыцарь. А был простым солдатом у герцога Раваха… даже, – я смущался обмануть дражайшую сиделку и в малости, но лепетел сущий вздор, – даже просто лагерщиком, знаете, не латником и не возжевым… Но вы знаете ли романский? Voyez-vous, я отстал от корабля и потерял все… а! – я заворочался трепетно, чуть взокрылась налипшая повязка. – Но вы будете меня презирать, но в трактире, понимаете… и не было мне другого хода действий. Ах, меня зовут Гаэль, Гаэль Франк. Мой брат, mon frère aîné, он небольшой сеньор, а я…
– А вы, mon chéri, – сказала она с необычайной простотой, смеясь моему лепету и переменяя компресс на ране толь бережно, что я более не чуял и ссадины, только прохладное жжение, как при прикосновении к Глаховым ду́хам в церкви, целебное и забвенное, – пожалуйста, здоровейте! Мы живем здесь легко, вы увидите, но у крестного множество свитков и даже folio, и он учил меня буквочтенью и голосу. Хотя, – она воздушно рассмеялась (ах, юница-коголанка, не отличить!) – на пальцах чтимо, что я ведаю по романски! S'il vous plaît! – и, дразнясь, выказала язычок, розовый и нежный, как лепесток, и опять я разнежился в цветочном аромате ее выдоха…
– Вот! – воскликнула через минуту (али через вечность?), защитывая меня мягким льняным покровом. Но ей же наклонилась, и щекотные локоны зарадостно упали мне на щеку… ах, будто дружась в путаной щетине! И защепетала, по воздуху приглаживая над раной, заговаривая зудящий отек на латейной речи (ах, праматери языков!): Fiat firmamentum in medio aquanim… И зацеловала висок, доле и слаще: – Спите, мой рыцарь! S'il vous plaît!
Дивно создана человечья память! Когда бы я ни воспоминал Фанум (местные важили так Элизерово капище), то воскрешались я и Летта, беззаботно кружащие по запойменному лугу в те краткие дни. Краткие ли? А перебирать, так и несчетно их было, проискривших через широкий брод, но все закрутились в бесконечный яркий свиток, где вглянешься хоть в малую искру – и вот она обретёт звук и вес. Не так ли все мы – искорками хранимся во Глаховой памяти, и когда воспомнит он нас, назовет громогласно имя, вот и оживем небылицей?..
– Гаээээль! – Летта мчалась к лесу, к нашей тайной клеверной полянке, и Белка, ее пегая кобылица, фырчала смешливо и той-раз косилась воспять, где я сам хохотал, разлененный, не желая шпорить молодца Алтея.
И вот – лежали-обжимались уже в мотыльковых клеверах, отмахивая пчелок и тяжелых шмелов, приглядываясь, не прямятся ли лепестки к бусенцу (а то и нежданному про́ливню?), лениво выбирая лучшие в котомку на домашний отвар, но главное – отыскивая счастный четырехлистник. Ах, это Летта когда-то кажила мне, кружа меня глазами и наивничая, подобно любой деревенской простушке:
– Ведаешь ли, что где феи в раю, знамы четырехлистники? Ибо любезный цвет Метары! Ибо заманила и Глаха: подмешала в травный сбитень, и возлюбил он ее торжество жарче меда. Так говорят… – и она смеялась, и щипалась, и шептала еще (пословно вспоминая с Элизеровой книженцы?): – И ведаешь ли, бо четыре листка суть четверик жизни и света, но толь, не сорвав ще, завежи, где часть чья, ибо та требна, куда спешишь путь. А коли съел целиком – то залежишься тут со мной навеки! – хохотала, целуя мне веки, щекочась, сама как медовный цветок, и дыша тепло: – Ну, Гаээль, проникни меня!
И Белка с Алтеем то фырчали в сторонке, губами тормоша клевер, не мокрый ли от росы, то, пожевав кратко, вскидывались челками, кабы слушая хозяйскую возню. И Алтей, ах жеребчик, тож начинал трясучить главой и гугукать, и Белка взметывалась обратно в луга, дразня дружка ржанием, ибо знала отменно, что круглый день – они вдвоем-одни в Элизеровом раю, как и славные всадники их.
Ах, что еще? Еще Летта знала немного ведовство – что-то Элизер ей давал учить, как тот заговор воды, или заговор земли, или ветра, или неба. Ну, чтобы небо было ближе, знаете? Что-то ведала про растения, как вот клевер, что-то и про фей, которые от цветов, кажут, и произошли. Ах, и гостила иногда у фей и те тож кой-то знайство дарили! Но больше любчила пернатый базар, и так славно пелась голосами их, что в любой раз, когда наигрались мы друг другом и влахались отдохновенно на горячей мураве, зачинала дудочкою свиркать губками, приманивая то зябушку, то гузочку, то ивожку, и те по-две и по-три слетались к ней на протянутые персты, блестящие колечками, словно к старшей сестрице на зов. И что-то чиркали ей на ушко, а Летта – еще свиркала в ответ, но мне отговаривалась, что и не язык, а лепет лишь детский, и надоть видеть. Иногда серьезнела и видела меня тож: брала тихо голову мою в мягкие клеверные ладоши, и теплым солнечным лбом, чутко щекочась, касалась чела, и будто слушала, и смеялась иногда:
– Ах, но ты такой мальчик!
– Ах, но мнится мне, – когда я обиживался, то вечно перескакивал на возвышенный тон, – что мадмаузель не вышечно старше! Но и мечом могу, и знаю искусства…
– Ах! – вскидывалась она. – Расскажи комедию, мне любы такие плутни!
И я, путаясь в старинных произношениях, тщился припоминать ей что-то из Аристофена или Плавтуса, что видел в Коголане на соборных пьяцеттах, когда, ах, прогуливали вечерние посиделки, и крепко-то получали затем деревяшками по пяткам, но все же прогуливали опять, ах, и казалось мне, что я и правда очень взрослый, что молодость была давно, а теперь…
– Летта-Летта, – лепетал я, ловя и целуя ее кудри, взметывающиеся надо мной как будто в потоках смеха, – но мне верится, Элизер благоволит мне, иначе зачем спасал меня в лесу? И не откажет…
– Ах, нет! – хохотала она, – Гаэээль! Ты мальчик еще. Но не сердись… – и сама целовала быстро-быстро, запрещая протесты. – Но поведай…
И так – с луга доносилось довольное ржание Белки, а я переведывал ладушке-Летте обычно ту сказку, которую любила. Вы знаете! Где дочка горшечника смело одевается юношей, и на рынке бойким язычком привлекает местного тирана. А тот, понимаете, переодевшись кожником, развеживал на рынке сплетни о себе – и то-то голубоглазая дева ему нарассказала! И милый мальчик (кхм!) столь-столь его привлек, что начал обхаживания, и девица сбежала, потеряв башмак. И как потом всему мальчишью по королевству меряли башмак, но не сыскали! Ну и, вы знаете! Потом, ясенно, отец-горшечник стался главным горшечником общины! Ха-ха-ха!
– А потом? – спрашивала Летта, опять целуя, медленно и нежно. – А потом?
Хотя и знала, что тут комедии конец. Но так волновалась сей выдумке, как будто потом – главное, что должно сбываться в сказке.
А для меня не было никакого потом, а было единое сейчас – синее небо в облаках, опустившееся близко-близко, сладкий клевер, тяжелые шмели, пролетающие прям-над глазами, и теплое воздыхание Летты прям-в ухо (и с каждым дыханием какие-то прядки ее волос взлетали, видимо, от счастья в воздух и щекотались обильно), и – вдруг по лбу! – шершавый язык Алтея, вернувшегося с победой и благодарящего хозяина за столь счастный день.
Раз-то визитовались мы и в Метаре, но кратко. Я и не запомнил ничего, кроме обильного рынка (и кривых деревянных тротуаров, проложенных над грязью!) – и потому лишь, что Летта блаженственно-долго выбирала и рядилась за ситец. Я же скучал сперва в лавке, слоняясь меж распяленных напоказ полотнищ, думая, что бы (может быть, а?!), предложить ей ко свадьбе, но не решился прерывать мою Летточку, лопочащую с хозяйкой будто на неизвестном языке, потом вышел к воздуху и глазел…
Оказались мы почти у края невольничьей части, где продажных выводили напоказ, и не девки даже, наохреные и наяхреные для пущей ляпистости, выводимые в блестючих ошейниках, задели мое нутро до желчи – что мне, если была Летта? – но сущие вьюнцы, с недозатертыми синюшными побоями на боках, с разбитыми коленцами, заплаканные и озябшие… бывшие ще давеча чьими-то свободными сыновьями? Хотя и язычники, но как же так?! О, Глах!
И кто рядился за них? Счастлив был смазливый мальчик, выбраный на двор богатой вдовы для утех ее жирных лях, ибо наче-то – прямой тротуар к содержантам борделей для омерзней-Сержебродов… ах! Это первый раз, пожалуй, когда я воспомнил отрока-себя и молча зашепетал губами благословение Метаре. Ибо, коли бруманками ея спасен, то ее ли воля? И уже не ярился на судьбу, что не сажен был чернобородым комендантусом на почтовый барк в Коголан, что зацепил смерть, что не имел начертанной служивой стязи, а только – здесь и сейчас – благодарен был истово, что не втуне сей рабской загороды мятусь душой, а со живой стороны только внемлю, молча кутаясь волчьей дубленкой… и так-то скулеж их душу разъел, что и молиться перестал, только кутался зябче.
– Гааэлль! Спешим – Летта выпорхнула как весенняя ластица, как музыка, как удача, но долго ще я молчал угрюмо, пока Алтей, тож фырча, месил недовольственно бурую грязь… вспоминывая потеряные глаза мальчишей, будто черный демон выпил до дна их души. О, Глах!
А так-то – в Фануме царила вечная весна. Стоило скрыться в Элизеровом лесу на пол-лиги, наверно, где не было людского лишнего сглаза, пробраться по сущей торопке от южной закраины безмерного леса, и начинало – ежели Элизер обважил тебя дотоле вещей водицей! – странно двоиться в глазах, будто слезцой прошибало… и надо было править тверже осквозь сей солнечный блеск, и вот уже галантусы выглядывали по бровке, и жарко становилось в накидке, и Белка с Алтеем радостно фыркали, нюхая райскую зелень, и прядали ухом на жужжащих мух.
И когда Летта остановилась на бивак на восхолмье, которого я не помнил… и вид открывался на чудную долину, но что за дол? ах, так был устроен Фанум, что были выходы, а были виды! А Летта сказала, что знать не ведает, что надоть спрашивать Элизера, но и крестный не помнит всё, но какая разница?! Ах, но как же, отвечал я, почему не разница? Если такая божеская делянка та долина, то как попасть? Но зачем, говорила, Летта, если это только картина? Ах, как ты несерьезна, сказал я, целуя ее и чувствуя, что душа теплеет наконец. И что, сказал, когда же мы поженимся? Я хочу быть с тобой вечно, и мы поселимся в той долине (Элизер даст нам волшебный посох в путь), и будем счастливы и беспечны до конца времен. Ах, ты смешной, покраснела она затейно, расстилая покрывало, но проникни меня! И еще, сверху нас накинула как бы сетку, воздушно-зеленую. А зачем? Ах, Гаэль, ты ничего не разумеешь о волшебстве, но шепчешь я краше солнца и луны? А если кто узреет меня, из магов, вот хоть кажут герцог Равах изрядный маг-чернец, то похитит и как ты защитишь, глупый мой?! А так сетка укроет нас, и будем мы в их глазах колыхающейся травой, пока не кончится наша любовь!
И так, правда, когда изнеможенные уже былись, когда Летта заснула, обнаженная и, ах, в брызгах моей любви, сияющая как солнце и луна, и черные ее волосы пахли медом как волшебственная трава забвенья, то над чудной долиной вдалеке загустело небо… и я было подумал, разглядев далече очерк замка, а не на Метару ли смотрю?.. и тучи взвились над замком, как бы и впрямь чернеца душа, и забило солнце алым лучом сквозь прореху в той душе… а может, и не солнышко уже, а глаз его кроворизный? И так порскал по холмам и долам, то ли врагов полоша, то ли что, но Элизерова зеленая сеть хранила нас, и через несчетность тревожных выдохов моих (и Летта даже жалась во сне ближе и губами искала) темень над замком то ли, а то ли просто над скалой чудной? – темень рассеялась, и опять было теплое солнце, ложащееся отдохнуть в зеленую долину, где ручей блестел, как несбыточная слеза счастья.