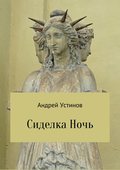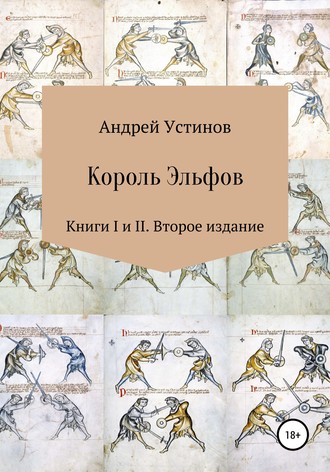
Андрей Устинов
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
И те из вас, кто насмешничает, кто до сих пор не любил, могут и должны перелистнуть сии страницы, ибо не в козла будет корм! Но тем, кому ведомо сие жжение души, расскажу истинно… заблуждение ли? И да, и нет. В состоянии любви – мы не видим обыденного, но глаза наши становятся глазами богов. Ибо истинно говорю вам – такими Они и видят нас, человеков, смешных светляков, со своих высоких небес! Вот так было:
Катинка (явившаяся единственной дочкой трактирщика! свезло!) умела часто отлынуть прислужных дел, прихватывая той-раз холодной дичи и эля, чтобы перекусил ее суженый (то есть я!) от лагерной тухлой жрани. А я иногда – что же тут злого? – прибирал всякую железячку с лагеря, что лежала не очень, и на вырученные медяшки щедро нахватывал ей ленточки и златы-нити в златы-косы и еще блестящие колечки-брошки, и за руки бежали мы на луга за южные ворота – помять муравушку, покуда день… а вечор – тайком я скребся по глухой стенце к высокому оконцу – и обжимались до рассвета в ее горенке, да и что обжимались, любились во всю прыть!
На диво, Катинка была религиозна до мнительности, тягала меня, коль слаживалось, на изрядные Метаровы процессии и звонные толпования, от коих гудела после ее головушка, но верно радовалась, что суженый ее суть грамотеец (о, ликейон!) и знает расчислить весь пантеон и мелочные их межбожьи сварушки… ах, хотя радешенька была, как истая девчонка, прихихикнуть над божествами, но оченно тянулась верить раскушенному на праздник Дома прорицанию (в сладкой-то печенке), что Метара лично нас свела! Ах! А я охотно таскался за нею и все-все поддакивал, она была для моей вечной неги, для любования вдохновленным ликом, но не для метафизических дискутерий, нет! И про себя (ах, благодаренье кормилице!) – то я строил в кармане фигу, то скоренько складывал пальцы меж пальцев накрест, что вся наша встреча лишь случайность, встреча говорливых песчинок, ибо если бы боги впрямь смыкали наш шаг – о, они бы не успокоились! Больно-то мелко было бы для богов и присной их своры…
О да! Я мог бы, наверное, спать вечно, баюкаясь восхитительными видениями, скользя по завиткам Голоховой шали, – за все мучительные часы в лагере, когда изверг-серж не давал вдруг выхода и рвались в клочья намечтанные мотыли моего счастья, за всё-всё-всё, недоданное мне жизнью, – во сне, как с чистого листа, смеялись навстречу мне слезинки ее глаз цельною лазурью естества. И день оживал белотрепетностью ее лица, и проталиной раскрывались ее веснодышащие уста, и под прядью всплеснувшейся, где виделся набухший сережек исток, млел, будто непрочный кусочек элизиума, вдетый ею тряпичный пимпернель. И когда обнажалась, когда вскидывала косы желтою льняною полоской поверх дрожащих вен, когда вспенивала их пышно, не была ли она нимфой, вздыхающей нежно, покидающей купель девства? Ах, а в ночи, будто обнажая тайный гобелен, когда вспыхивает мятущаяся свеча, будто по Глахову слову, из небытия – выплескивалось на меня, выбрызгивалось солнечной насмешливостью ее лицо! И на краткой прогулке, где в осиновых листьях поляна жгла румянцем, как лукавый девичий лик, Катинка была – этой рощей, дрожаньем и голосом тумана, языком древесной феи, чей выдох, спутавшись, индевеет на кончиках век, но раскапеливается на мои поцелуи, растворяясь во мне! И там – или другой раз? – из-под радуги брызгали вдруг листья, обнажая разъем в яблонных ветках, где виделось закрасневшееся золотистое ядро, и там же распускала тяжелые плечи облепиха, маня в хоровод, будто сжигая солнечный вечер на осенние бусины, и там же пророчили нам судьбу пряные флакончики львиного зева, ах, в Гесперейском саду! А говорили ли? Ах, до речей ли там, где рук ее, почти смутившихся, почти затанцевавших вальс, чистое влюбленное дрожание заменяло кугели фраз, где воздух шелестел тайным электричеством, будто рассеченный мнимыми сомнениями – не в любви нашей, но в вечности этого мига! – рассеченный умасленным сиянием ее золотистых кос, как будто радугою влет, сиянием, да, придававшим юную славу ее улыбчивой небрежности, там расцветающей сполна, где на губах ее ловил я пушинки ее неги и аромат ее – ея по торжесловному! – тепла?! Да, да! Вся она была – от дрожанья век до дрожи пальцев, до голубизны усталых после прислужных часов голубых ея вен, вся была моим переменчивым счастьем, вздыхающей, не поднимая глаз, как вздыхает наяда, задерживая детство и ещё втирая в виски сладостный елей, отвечая да смертному. А крепко ли любили? Ах, мы были Кеик и Алкиона, когда гуляли вдоль прохладного моря, где с тягучим криком проносилась чайка под вскинувшейся к облаку волной и облако сочилось сквозь пальцы прозрачною берестяной строчкой: проснувшиеся звезды сейчас коснутся твоих синих воспаленных глаз, и мы застынем в мифе, Алкиона, покуда пена не отпустит наши шаги! Говорили ли? Ах, до речей ли там, где имя кажется ошибкой, прошептанное невзначай, где через печаль минувшей разлуки и страх будущей – все равно, как бодрые сорняки! – пробиваются улыбки, где светлой полудетской брови разглаживается излом и выдох ее – ея! – как будто болен ее любовью?! И ее глаз, источающих испуг, слепые всплески голубые, и нежных белых рук скупые от робости касания, и переплетенье ее волос, будто из золотых каких-то снов, и непроизносимых слов почти неслышимое пенье! И где – когда совершена любовь – все еще дрожит слегка и будто нежит мятую простынь ее незащищенная рука, чья ладонь еще раскрыта в изумленье, как будто все и не всерьез, и тонкая линия жизни еще хранит смятенно тепло моей жизни? Ах, она сама была – лишь сбивчивая строчка из путаной поэзы о любви, где связывают многоточья несовпаденья рифм, где испуганный нежный голос – тонковетлою рощей взметается в небесную просинь растрепом птичьих полумер, где на березках остаются желтеть ситки ее волос, где на тропках блещут неразбитые блюдца ее девичьих полугрез! Ах, и когда совершена любовь, как беспечно я скользил в розовощеких снах, где являлась Катинка благородной горожанкой, снизошедшей ко мне в луга, изыскивал среди цветастых стежек алый лак на кротких ноготках, голубые гво́здики сережек, трепещущую капельку ручья на серебринке тоненькой цепочки и щекотные ресницы астр! Сердились ли дружка на дружку? Да! Ибо что же любовь (так потом Ориест-друг учил, прозванный воробушком!)… что же любовь, как не осколки прозы, утратившей медлительную спесь? Как две березы, иной раз растерянно бросали оземь свои сережки, но затем лишь, чтобы завтра снова цвесть! Ее один лишь вздох – и перепалок окаянных, колченогих от потери букв, да сгинет поросль, да сгинет, ибо только после ссоры слово исповедуется вслух в придорожной крипте, и только после засухи витую ветвь осеняют вершинные цветы, ибо только в испытанной вере в Нее в полной мере существует Она. И тогда – буквы, будто низка самоцветов, складываются в звенящий хор, покорные моему обету: она топни ножкой – и разлетятся стаею разжалованных ос, сложив неуживчивый вопрос в небе из искусственного глянца, – а посвети она сказочною нотой голубых забывчивых цветков и воскреснет рядом нежный кто-то, запинающийся во слишком многих нежностях! И тогда – разговоров брезжит тропка, без памяти и сна, полная расплоха, не знающая дна, и тогда – на счастье и на лихо разбег ее бровей и разлет душистых кудрей, и будто нимфа поселилась на качелях ее век, и тогда – все мечтанья детства и взрослости излом дремлют по соседству в имени ее. Ах, какие глупости звучали в наших речах! Глупости, которыми был переполнен воздух, будто мостящие нам тропку до Луны! Невинные созданья, лебединых предкрылий белый пух, упованья, рвущиеся к жизни, но понапрасну высказанные, приносящие печаль и страх за будущее: и она всплескивала руками, задыхаясь, и щеки влажно щипала завязь торопливых чувств… и горячие глупости, как расплавленный мед, истекающие сквозь ее сбивчивые губы… и наутро, сквозь серый дождь за окном и долей височных разнобой, все их она опять пересчитывала, все вчерашние глупости до одной, всех мотыльков моих слепых обещаний и, плача, опять улыбалась мне! О, как я мечтал быть художником! Чтобы моя провидчивая кисть могла изобразить задумчивую жизнь ее полубровий вздетых, манящих в иные приделы, изобразить тонкость ее взглядов, будто преломленье витражных брызг в заброшенном храме, изобразить оживление нежных рисованных ликов, всенощное бдение цельного иконостаса о нашей неожиданной любви! Или – изобразить десятую страницу ее снов, будто гобелена полотно, где лица выражены неровно и закат льется в приотворенные окна, и где, тонкими лучами опутан, я мог бы коснуться ее дрожащих рук, где потолочный полукруг полон тайного воздуха и тайное слово еще не сказано, но уже коснулось ее уст. Как мечтал быть поэтом! Чтобы, когда будничности чет и нечет пытались загасить волшебный синий блеск ее глаз, мои стихи излечили бы ее сладкой пастилкою под язык, чтобы просыпалась вместе с солнечным арпеджио арф Элизея и босые ее ноги легко приемлили брызжущие росы моих стихов! Ах, да! Да, быть художником и поэтом, чтобы нарисовать пляж песчаный, где засухи правила ересь, затанцевавший смерчами, почуяв прилив, где поют русалки, возвращающиеся на нерест, и где шершавой волны опять – опять! – воплощается миф: пожертвовав тело свое налитое, гребень пенно-надменный искусно горбя, на лазури воды из песчинок и праха прибоя, из течения струн нарисует Ее лик, – где, воскрешаясь из пены влюбленных истерик, в пестрых перьях и кичливо трубя, стая нимф через отмель летит, призывая Ее, где, уловив жизни поспешность, прошептал бы я истощенной волне, что никогда не окончится моя нежность и неизбывны песчинки нашей любви! Ах, что мертвая ночь?! Если – по кромке бренности, где поцелуя ждет сирен окаменевших пенье, дыхания ее прольется бирюза и черной пасмурности вылиняет цвет, и за жахлой кочкой луны – огромной бабочкой вспорхнет желтоглазый день! Ах, Катинка, неразменная монетка, выдумка взахлеб, росплеск рыночного фейерверка, скоротечный озноб, омут, понарошку неглубокий! Строчками любви, новорожденными еще, дрожь и томление воздуха, капелью сорвавшееся слово наконец, радужная грусть и нежное стихотворение наизусть! И кто/что я без нее? Слепо, будто дышащий по звуку, будто она за тридевять земель, мальчик из ниоткуда, потерявший карамель и неспособный пережить докуку? И когда чертов буран за стенкой караульного поста воскрешает лежалых листьев вихрь, будто уносит ее улыбок теплоту и горесть, что я могу? Выдохнуть больною испариной ее лик на слюдяное оконце, и тогда мрак вокруг меня становится обеспредмечен, как солея пред сияющим кумиром.
Вот так я и дремал в слезах, а то и улыбаясь, весь в иной жизни и торжестве ином. И проснулся бы – не пересказал бы, не перевел бы сон, кроме имени ее. Сполохи цвета и выплески слов, все мною перевиженное-переслыхнутое и перемолотое дремой, все плотно стежилось в цветастое одеяло, укутавшее мое внешнее я, и только нечто внутри, еще мне неизвестное, резвилось и росло.
Так вполне можно в сержи и жить! – вот и все, что сей глупец (тамотогдашний я!) сказал бы утром, потянувшись-залыбившись и неверно плюнув трижды через плечо.
Но три пряхи, прилежно сортирующие нитки моей души, ах – они-то знали свои труды!
3
Я не жалею о прошлом. Но все же, каким бы рычливым щенком (всерьез мнящимся волкодавом!) я ни был, но светилась в сердце Катинка и были щенячьи какие-то планы. На деле же, конечно, я понимал волчьи законы людского мира не больше, чем мотылек, только что выцарапавшийся из куколки.
И все сломалось, едва начало налаживаться. Хотя Елизер, всеведущий маг, и объяснил мне позже, что случайностей не существует, но до сих пор я сомневаюсь… а если бы боги так не заботились обо мне? Если бы наши с Катинкой дорожки не перекрестились в тот день и час у гарнизонных ворот? Если бы остался с ней и любил ее вечно, как и хотел? Так и порхал бы над мирским тленом? Смог бы? Елизер уверял, что нет… и не один повод, так другой, но обязательно отправился бы дальше по дороге славы. Что тут сказать? Я нынешний – не жалею о прошлом. Но я жалею того Гаэля-мотылька, которым я был и которого больше не будет никогда.
Плюх!.. Шшшуу… Был пасмурный осенний день, хотя и без мороси, и шугливым волчонком я скребся по кювете вдоль лагерного палисада, сердито жужжа под нос:
– Канава! Чтоб их! Кювета же! Хотя кто тут терминарии разумеет! Воеводы ж!
Относилось это к утреннему спору на плацу… Сержа никак нельзя было обвинить в чистоплотности, но кинули словцо – кто-то от армии будет спозаранку, может и отправят на подвиг, и надо было хоть как-то причесать поляну. Вот и мел драный плац драной ивовой метлой, задираясь с прочими бездельниками, пытавшимися смеяться над моими знаниями сражений и позиций, набранными из ликейонских уроков истории. Ах, натуральный бисер перед свиньями! Да и клятая листва то и знай падала вновь или насмешно разлеталась из наших куч, лишая день всяческого смысла. И потому был я немного сгоряча и мысли жглись и бились соответственно. И пусть неподходящий день был для шалостей, но из принципа и злости пустился все же в антрепризу.
Полз я к водоводу под въездным накатом – ах, самому ж стремному месту! Плюх!.. И замер, пузом в тяглом холодце, сгиная забродившую осоку, закиряя шею от укусов… Й-й! Засвербел позвонок, зливо ломясь… ух, выклонился как-то, замакнув пожатые губы, лишь нос над самою жижей потружно выдыхал склизкую рябь. Ах же вонильня! Чу! Еще и зубецы от холода заломились! Чу! Дневальные на привратье, два матерых злыдня, вышедшие вдруг из караульни сплюнуть смоляную жвачку, бормошились почти над душой, въедливо честя честны́х девиц, сочно отрыживая тяжкие ароматы… да и задами не держались (ну прямо трубачи!)… приходилось ждать.
Но что же делать: незаметный подлаз по кювете и был ключом к моей антрепризе – подворовке подков, первый год введенных нашим новатором-герцогом для обозных лошаков. Ну, заместо допотопейных сандаль-накопытников на подвязках – то-то в осенней грязище хороши! И потому весьма востребных держателями дворов! Ясенно, я не мог выйти на ярмарку и торговать с кармана; потому загрошно сбагривал подковки некой кривой роже на базаре, знамо лишь за медный звон в нужный карман не наколотой ще на оградцу на том же рынке. А то, нам на страх, пяток конокрадских жоп (пардон за жаргон!) там уж месяц сохло на зазеленевших кольях, ух как! Подковы! В Коголане-то они водились давно, для гужа и верха, и я от души смеялся местным кривым поделкам, совершенно без отворотов или чинного тщания о балансировке! Ах, а прямые безукосные нагели? Варвары же! Воеводы ж!
Да-да, и ключом, даже нагелем к прибытку (я аж икнул, отверкнувшись от тыркнувшего в щеку сохлого стебля) была наглая удаль торнуть кузню отвне. Ах, как я смеялся целый день, когда меня поразила сия идея! И даром серж-подлец выставлял на плацу кратный караул, – тем пуще потеха! С нашего со Щербой поста (отговариваясь, будто пошел по-большому) я бездельно шлепал в лес и сквозил через дубраву к отводной канаве, а там-то и приходилось полозовать. На это дело я, воображая себя сказочным ловкачом-буканом (бишь, эльфом-контрабандщиком), бережил старое тряпье под приметным камнем – влезать было мокро и грязно, но не сушить же на солнышке? Но кто же нагадал выставить кузню глухой стеной наружу? Пускай сплоченной в лапу, да задник крыши прибили мимо лаги (эх, криволапы!) и доски подъемлились неособным усилием – ан бы не оцарапиться! А чтобы не попасть на поверку, озорничать приходилось по обеду, пока серж в конторе вкушевал свежие провианты с рынка. То было вроде подати, наложенной добрым герцогом, что каждый торгаш поочередно возрадован был кормить защитный отряд. Типа рабьей дани, положенной по распорядку, согласно доходцу… а мне-то – шумная суета, чтобы проскользнуть под накатом…
Уфф. То ли от неудобства меркнуть мордой в луже, то ль от монотонного гужения дневальных, чуть видных мне сквозь траву, – вдруг мне до холодной смерти надоел весь циркус. Еще вялый бурый пискун прижалился аж на кончик носа, нацелил хоботищем, двоящимся перед слезящим взором… Я зажал дыхание и макнулся ниже, пискун обиженно порхнул куда-то за ухо. Сволотец!!! Если бы не Катинка, коей прошлый раз погорячился наобещать изящную вошеловку, деревянное резное яицко, прямо как у благородных дам дома в Коголане! Так увидел в оконце богатной лавки, так и обещал: а разве недостойна моя Катинка благородных устройств? Если бы-бы… Ах, сколько ждать еще подводы с налогом, вечно подвозимой к заклону солнца?
Но и болтовня про себя (разве что пузыри разбегались по гнилой луже) обрыдла до рвоты. Подумал, что причитаниями похож на того хлыща, что привечал меня в Метаре, и разозлился еще больше. И почти уже выскочил из штанов на злыдней и что-то злое учинил бы, но…
Чу! Я дрожу до сих пор, вспоминая… я не поверил юнецки запылавшим ушам – как бы само светило тяжко пало на череп и расползлось горячей лепешкой! – за хохотком сторожей, за тяжким притопом лошака по мосткам и скрипотелью тележки (ах! и сам я шелохнулся было облегченно, плюхнув лужу пузом абы жаба!), за брехотливым сверчком в кусте, позабывшем про осень, – расплеснулся знамый боевитый голосок. Как же?! Как же?! Как же?! Не их же очередь??? И такмо кровь загорячила мне по вискам, что Катинкину смешливость едину и внемлил, абы колокольную святицу:
– Доброго дня, судари! Припасы вашему сержантелю!.. Ай-ай! Ей-глаху, судари, не лапчитесь! Ужо топорницы вянут без вашенных рос!.. Куда ли! Сей окорок гербовный! Порвете мне вощеванку… Ах, сударь, полно, ах!
А дале – пали на очи морок и сон, я крался-терся, драпался где-то, дрался-царапал, и чуял лишь святицный ее голосок, перезвившийся финально в мышиный визг, достойный серосветного плесеннодушного амбара, куда я вломился сквозь запор-в-щепы за голоском ее, а развидел ее нагую покорную суть! Как же… и закличился, и кинулся на темного борова, монотонно ее кроющего…
И выяснилась в глазах – лишь выгребная яма, в коей приочнулся:
Смрад… парной живой смрад, в ком ты по горло, почти глотая, смрад, дна которого не знамишь, еле обдираясь пальцами за склизные корневища из стены, смрад в глотке пополам со рвотой, пропитавшей зубы, феторный дых в носу из собственного нутра, дриста и калые горошки в ушах, залепленных глазьях и волосах (это когда срывался с корневищ). Егда, грязно хмылясь, на тебя во имя Голоха опошевили нонный жбанец нечистот… Когда само течение дня ты меряешь сими корчагами-братинами (у разных бараков разномерны и уже знаешь все!), опошевенными на те со хмелого размаху, и жалишься к стене, нычешь дыхание, и по темени, по власам, за шиворот живыми червями течет по тебе смрад. И одежка на те ожилась второй, смрадною кожей, под кою ты и сам гадишь в себя, абы в суму. И даже вонные мухи с отяжеленным брюхом, лениво бражжащие, мнится, тужко присаживаются на голову, чтобы еще испражниться лишку. Скоро руци ослабнут, и…
Шаги зашлепались поверху, брызнули грязевными кляками, и я ужался… задрязгся в бессловном плаче, заслышав тонкий предажий глас:
– А, Гэлька? Ну човты, Гэлька? Не скворчи, не вживай… Човты? Ще недолга, ще у Глаха бужем стольничить, ще… Анто Сержеца мово не трожи, лады? – лепет Щербы перетек внезапно в ерное скуление, душевой визг, и от пришедшего откровения я враз ослабил пальцы и плеско залужил в смрадную тугую глубь, нырнул по самы гланды, еще внемля сбивчивые перечеты Щербовой запутавшейся души: – Онеж стражец Глаховый, нежит мне, щитит, прегрешет ме…
А было так, вспомнил полыхом: занесся на едином дыхании, сквозь лагерь (где на площади разбили бивуак новобранцы, которым не хватило барака) – сквозь лагерь злостной кометою прохвостил, убивая поленья, проставленные сушиться, подрав растяжку со рваными чьими-то рейтузами, подбив чей-то не к месту выстуженный котелок, расплеснувшийся под ногу постной жижей… сквозь глаховый мат, примчал на наш со Щербой пост, истово шепча-плача: “Убью! убью, убью”, – и каждое новое ю, синевою вырывавшееся с сиплым выдохом, будто придавало сил. В этот миг – кажила кормилица, предсмертие тако меречится ярко и ясно, – в этот миг внемлил все. Сквозь кровь в глазах и пот и оглушное биение в ушах – я людей не видел и не слышничал, но внемлил-то все: как нехотя падал гландис с дуба, чуть косо кружа в стылом эфире на единственном в оперении листке, как расплеснулась от паданца мелкая лужа, окаймленная пеной, облив по зобу серую лягушку, чье горло тут же пошло радужницей; чуял, как сойка с оголенной липы расправила голубые плечи, готовясь чижикнуть сварливо через набитое горло; как тут же ревниво напружили лапы белки, ковыряющие поляну; осязал, как влага копится на желтеющих липовых сердцах, сливаясь в знатные тяжкие капли, таща на себе наметенную пыль с озимного поля и каких-то мелких фузорий, знающих только о капле и ничего – о Голохе и трех его тетках-пророчицах; внимал кукушке, что на дальнем крае облесья затеяла кому-то отсчет оставшихся дыханий, запнулась, перечела еще раз раскинутую рядком паутину, запела заново; и запал Щербы чуял по дрожанию пола под его неустойчивым бегом из каморцы, по выметнувшемуся из двери заспанному сенцовому духу, а вот лепет слов его – не разумел.
И все сие счастье я готов был кинуть Глаху в глаза – в размен за червную юшку вонючего гада сержа, за клочья его черного тела, расчехвощенные по корытцам на гладость псарни, ибо только псарне, только волкоедам можно сие мясцо, а даже вольным вороньям – ни. И чтобы кажный чернорвивый кусок, ще сочась юшкой и отвратно дымясь, каждый из сотенной мелкой порубки, – ще голосил и взвизживал, пока волкодавы ожесченно грызжут его на жилы и мозжевые костья. И чтобы…
А что с ней? Да не мог я больше считать ее за деву, ажже подает себя за наценочку, даже если заради отцова дела. Пускай так у них в Метаре принято у девок-то, ибо так шнырь-то тавошний (помните ли про жену купеческую?) и сказывал! Ах, но виновна в плотском обмане, и сожжена была бы позорно по милостливым Коголанским порядкам. А по местным-то порядкам – вольной воля! И я дрожал-дрожал-дрожал, вцепившись в коряги ободранными ногтями, и выбивал зубами боевую дробь. Ибо делала так много, знамо, и до меня, то лады, но не прервала и не сказала, – что же, вольной воля, вольной воля, вольной воля! А покалечил бы, поленом подручным залущил бы сержа-гада на посту ночном, сучком то в глаз ему бородавчатый, и колуном по черепцу, как по гландису гнилому, и войским воем созвал бы всех зверей и птиц и жучей лесных, чтобы сожрали к утру даже малые пятна юшки, даже запах поганый выпили, а кости – кинул бы в дозорный костер, что горит вечно, рассыпаясь по ветру пустой злой… и… бы…
…
Было холодно, и я ведал, что умираю. Я ныкался теперь, хотя и шатко, на некой коряге, нащупанной на противной стороне ямы, на коей мог сидеть, свесив ноги в говны, закинувшись спиной к шершавой склизкой стенке, скукожившись в сохлой сизой шкуре, как вяхирь больной, обреченно ждущий неясыти. Но высидка не требовала хоть напряга сил – странное царье кресло приняло мою обмякшую фигуру как родную, и я дрожал бесконечно и мечтою ждал появления Глаха. И жаба рядом, что плюхнулась ко мне в выемку час ли назад и недвижно о мне бдящая, не была ли Глаховой посланницей по моей судьбе?
И когда заслышались громкие шаги, такмо попирающие землю, что даже жижа моя дрожала вокруг, я ждал тепла и солнца, что эвонна щас Глах вытянет меня крепкой десницей к блестким позвездьям, которые есть горницы Глахова высокого замка, но тень потяжелела и нависла горше и рогатый великан в железосверклом доспехе, хохоча гнусаво, пнул в меня грязные каменья, хохоча-хохоча рыкливо и жадно теребя под мошной:
– Зарыкался, петушок? Ща еще нассу тебе в рыло, где ты тама, а? Посижи, посижи… завтрема ще посластить запросишь, сосунок… коли жити захотишь… Жити-то хошь, говнешок? Аааа, сладко-мя! Ще оближешься…
И когда по векам, дрожливым стыдным страхом, да еще вдарила пахучая струя ссани, солонцою закаплилась вниз по губам – тогда очнулся я и вспомнил…
Воспомнил очень просто все: как вылеживался-терпел, но обезумел, выскочив из канавы, воскочил запальчиво прямо в амбарку, где серж уже громогласно впарывал Катинке – за гнильцу в сладких початках, и она давалась покойно, без тени сласти или стыда, а так пусто стояла, будто и не тут. Потому что сама-разумница закупила с гнильцой (сказывала же истории!), чтобы оберечь стотинку на жертву Метаре. Потому что издавна так завелось в Метаре, даже почиталось обычаем, и только иноземный дурошлеп, как тот папаша швейных близнецов (ну, Эл и Пирси, что ли?) или салага аки Гэль (и это я, что ли?), могли ерепениться. И что, правда, побежал я защищать? И Щерба – ах, дурик! – завопил истошно о Серже-защитнике и взогрел меня чем-то тяжким… Ах, пустомеля, чтоб его! Кто же знал-то, что он в довольстве и счастии алчется от сего непотребства?..
Сейчас, воспоминая, опять я как бы видел наши со Щербой дружные разговоры, но именно видел, а рты-то как будто разевались попусту, и никаких слов не выходило, только ветер пустой. И опять утопал в Катинкиных глазах, но не в голубизне их, а в пустоте, и почувствовал вдруг, будто лишился тела. И откуда-то из-за тумана доносились ще хохочущие слова демона:
– Жити-то хошь? От-же кинулся, горячешный! То охолонись-ка! Скули же, гов…
Но были то пустые слова, лишенные силы, только буквы, куражно выдохнутые в пустой воздух, как сухие листья. Как будто сдутые с той давешней вывески? И ничто не было уже выше – пустота одна. Но внутри меня – внутри-то меня Катинкины глаза, как были они голубыми до вчера, подожгли будто мою желчь. Или наглый хохоток демона ожег меня так? Но через сон услышал я чей-то еще глас – али другого, дружного демона (говорила кормилица, говорила!), али свой? – натужный, но ровный, как вещий гул в страхоморном ущелье:
– Азм. Азм бу вживу. Азм бу вживу. Азм бу вживу…
И увидал я себя самоё, как бы сверху, как существо в яме дернулось, абы Голохом обуянное, извернулось, цапнуло жадно бурый ком жабы, соловевшей рядом, и заживо зажевало ее, дергатную… чмокая, отожрав лапы сперва, а затем и всю до брызнувших мозжей, и все-то – не отрывая горящих глаз от пленившего меня демона. И слюнясь нещадно, грубо тоже хохоча, выплюнуло какой-то хрящ в сторону неба. И демон перекосился, атоль жирный хрящ ему в поганый рот встрял (ха!), и поперхнулся и закашлял гнилой слюной и завыл, ибо почуял мою неистребную желчь.
И мои девять душ (али сколь там Голох ведает? хотя бы и девять на квадриге!) – почуяли ли что? Да неже, пустой токомо вкус какой-то на зубьях, да гадко затеплело внутри, и я… вернулся в себя. И сидел, порыживая, на царском своем корневищном кресле в говняшной яме, но боле никакие поверху не маячили рогачи, будто начисто сожранные открывшейся мне пустотой.
И тогда, абы жаба сам, абы ее поднабравшись опыта, я скользнул глубже в теплую жижицу, щупая ногой коренья, – выживать рассвет.
Хмурое утро и тучи свиты в некий темный глаз – судачат, так герцог Равах на вражьев ворожит, и в свинцовом жбане колдовство свое разводит! И то верно – тучи тодысь и сложатся в зенные бельма, то-то выкружаются пузырями! Брр! А что он зырит-то во жбане своем – потеха! – вожжевые еле правят обоз, а пешкодралы как я или Щерба чапают вяло, месят черную обочину в глухую грязь и толчевают закосившиеся в колее телеги. Только слышатся рваные оклики вожатых да хлысты по драным хребтам, и солдатья божба и храп лошаков в ответку…
Да – как и не было ничё: утром дневельщик (сквернавец, что давеча ще с дружками метал в меня нечистотами) кинул мне чуть не в голову лестницу, бормоча что-то про сраное комендантово отродье и тесак-бы-в-спину, и едва я выбрал чистые манатки (опосля хладного ручьевания! ну а манатки как чистые – тоже чьи-то гнились на складу, даже и вошные, но благостнее новых!) – вот уже зудел рожок на зорьку, трижды-вяло крикнули Раваху благодать, и всю кодлу нашную устроили и погнали укрощать неких болотников, возмущенных добрым герцогом. И вот – чапали… кудать, когдать, все безвестно было, кроме прерывистой мороси, да водицы в рваных сапожцах, да рыжей соломы, востоптанной по обочине в черную грязь.
Я, по правде сказать, не думал много, пусто было и гадковато. Но как-то плыл мыслями поверх черной дороги, сам что ли как темное облако – а потешно! – все примечая: и неприбранное с луга худое сенцо, зазря запорченное, и скверные глаза крестьян в деревухе, через какую проперлись, растерев еще зеленевший щавелью выпас в черную негожицу, и помятых бесспросу девок, и расколотые двери погребцов, где передовые сыскивали явства. И гниль и холод, растекающиеся из тех погребцов, говорили мне яснее ясного, что отряд наший приворожен к царству мертвых, приговорен статься сладким мясцом для болотников, за все наши над Голохом насмешки, и никто этим черным путем не пройдет назад.
Ай ли, гой-еси!
– Эх, навались! – гаркал я Щербе, толкая очередное ушатанное колесо. И вытягивался во фрунт со всеми, когда Серж протопывал мимо, разбрызживая грязь увесистыми сапожищами, и смотрел косо в моросливое небо… и опять громко вчитывал Щербе: – Эх, навались же, сучец! Давай подтяживай! Задцом шевели! – бичевался весело и едва не укашливался смехотцой, когда отребье воскруж скалилось дружно-зло, а Щерба сильнее дрожал узкой задницей. Ах, то не была мстивость, просто не было больше друга, а ще один потешный смерд копошился круже, просто я так переможивал мертвое время, просто надоть было развлечие для сего отборного смрада с их подлыми тесаками, абы никто не проведал настоящих моих раскладов. А так – ежели и чуял, то жалость только к позавчерашнему себе, который был экий сосунок, что стыдно, но счастный сосунок! И знамо было, что – через простужный холод в грудине, когда на вздохе, – щас можно было только щупать грязь замерзшим носком, вылезшим из сапога, и гоношить Щербу, и ожидать Глахова подарка в жизни, которую нельзя изменить…
Но ближе к вечерцу… Отряд наш оголодалый почти уже встал неряшливым лагерем, но подоспела герцогская ратница и выгнала нас с насиженного пригорка. Что же, почапали дальше, и то ли по раскладу, то ли по потехе напоролись за буковой рощей на неразодранную ще деревню – и гнилой нашный строй с гиканьем разломился на ватагу сволочей: кто погнался за квохотной наседкой в кривой дровяник, давя кладку в желтки и попутно голошась, кто за вживким бабьем по хатам, отбивая мозги мужичью. Сам-то я, было заставленный мстивым воззжевым сторожить телегу, плюнул только гаду вслед и тут же натырился по околице, уходившей кривою тропкой за косой плетень, будто бы в сосновик, не особливо глухотный. Но попал на затейную девчонку. Верней-то, услыхал впервах ее (али ея, так ли грамоточнее?)… услыхал смертные визги за хилой избушкой, и потом сбежала как-то и подрала прям в меня, и застоилась в трех шагах, дрожа безнадежно.