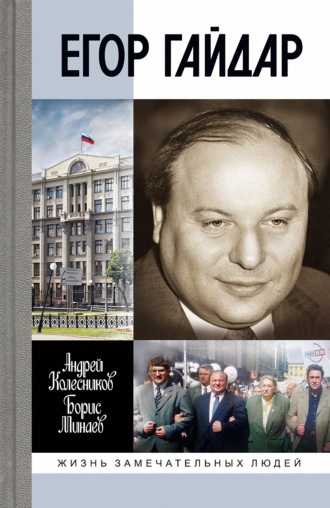
Андрей Колесников
Егор Гайдар
– Мы с Тимуром часто в своей комнате напряженно прислушивались, потому что не понимали: сколько можно давать младенцу кричать? А они, по тогдашней моде, считали, что пусть кричит, так советовал доктор Спок… – вспоминала потом Ариадна Павловна.
Ну да, доктор Спок, знаменитая книжка для молодых родителей (в Америке она была популярна в 50-е, до нас дошла лишь в 70-е), такой же «слепой ксерокс», бережно передававшийся из рук в руки, когда дети чуть подрастали, вместе с громоздким раскладным деревянным манежем, скрипучей коляской, стираными детскими вещами (в каком же они были дефиците!), банками с сухим молоком датского производства – это тоже страшный дефицит того времени.
В дефиците, впрочем, много чего – сосиски, зеленый горошек, порой даже майонез. Впрочем, молодая семья не жалуется – в случае чего родители и денег немного могут подбросить (другое дело, Егор не очень любит их брать).
Ариадна Павловна вспоминала, как тяжело заболел маленький Петя, ему еще не было и двух лет, и как врачи поставили тяжелую форму детской пневмонии.
– Он лежал с чудовищной температурой, нам казалось, что он умирает, – вспоминает Ариадна Павловна. – Пришел врач из поликлиники и сказал, что вы его можете, конечно, отправить по скорой, но там выхаживать не будут, шансы не велики. А как же нам выхаживать? – А вы ему должны давать по капельке воды каждую минуту… Пока не станет лучше.
И вот Егор сидел и давал ему каждую минуту с ложечки воду. Несколько часов.
Ира в это время была на дежурстве в больнице. Однако Егор справился.
Мы уже писали о том, как Егор, Ира и их дети переехали, наконец, в свою квартиру. Маленькая «двушка» в Строгине, в новом доме, – это был предел его мечтаний.
Началась новая жизнь. Стандартная малогабаритная квартира в новом доме. Бетонные коробки вокруг. Но рядом – берег Москвы-реки. Летом по вечерам или даже ночью они ходили купаться. Слушали соловьев. Дышали воздухом ночной реки.
В начале 80-х аспирант, а потом м.н.с. (младший научный сотрудник), Егор становится центром маленького домашнего кружка, куда входят его однокурсники и друзья: Авен, Походун, Васильев и др. Многие традиции отцовского дома, отцовских «кружков» 60-х и 70-х годов неожиданно возобновляются и у него в доме.
Все стало немного похоже на отцовский дом. Вернее, на атмосферу отцовского дома.
Есть только одно отличие – Гайдар в общении совсем другой – открытый, стеснительный, мягкий. Он притягивает к себе людей в не меньшей степени, чем отец, и то, что дом его открыт всегда – это тоже важно. Но обаяние его иное. Оно какое-то неуловимое.
Раз приклеившись к Гайдару, «отклеиться» уже невозможно. Ты остаешься в его кругу на всю жизнь. Как это происходит – загадка.
…Медленное тягучее время 80-х.
Умирает Суслов. Умирает Брежнев. Гроб его с грохотом падает, обрываясь с веревок. Умирает Андропов. Умирает Черненко. (Трое последних – генеральные секретари ЦК КПСС, первый – бессменный идеолог партии, член политбюро.) Ноябрьский морозец. Мартовский морозец. Черные шляпы на мавзолее. Товарищ Ю. Андропов – председатель Государственной комиссии по организации похорон генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Товарищ К. Черненко – председатель Государственной комиссии по организации похорон генерального секретаря ЦК КПСС товарища Андропова. Дорогие товарищи! Друзья! В эти скорбные дни…
В мерзлую землю погружают гроб Черненко.
Кем работал в это «веселое» время Егор Гайдар?
Итак, он закончил аспирантуру в 1980 году. Бремя отцовской фамилии работало не на него, а против. Подозрения в том, что он «блатник», преследовали и во время защиты диссертации, написанной слишком быстро для стандартного аспирантского срока. Тогда ему пришлось отвечать на 40 вопросов, в том числе и заведующего кафедрой экономики промышленности МГУ Геворка Егиазаряна.
Те же проблемы возникли и при устройстве на работу.
На кафедре экономики промышленности МГУ Егора не оставили. При том что некоторые НИИ начали охоту за талантливым кандидатом наук.
Проблематикой сравнительных исследований занимался МНИИПУ – Международный научно-исследовательский институт проблем управления, совместный проект социалистических стран СЭВ. Именно туда пригласил Гайдара на работу профессор Валентин Терехов. Но и туда его тоже не взяли!
В книге «Дни поражений и побед» Егор писал: «Нужно формальное утверждение Государственного комитета по науке и технике. Если бы речь шла об Иванове или Сидорове – оно чистая формальность, младшие научные сотрудники – не главная проблема комитета. А тут Гайдар. Раз Гайдар – значит, по блату. Если по блату – то почему не как принято, не через начальство, без звонка по вертушке?..»
И в МГУ, и во МНИИПУ будущий и. о. премьера не попал из-за своей звонкой фамилии. Советские чиновники от науки даже представить себе не могли, что в семье Гайдаров не принято, чтобы отец просил за сына или чтобы сын просил отца найти «знакомых». В общем, все закончилось тем, что Егор оказался в родственной Институту проблем управления организации – ВНИИСИ. Всесоюзном научно-исследовательском институте системных исследований.
Институт тоже был создан сравнительно недавно, в 1976-м. Директором его был Джермен Гвишиани, зять Косыгина; одним из ключевых сотрудников – тогда еще членкор, работавший до создания ВНИИСИ в ЦЭМИ, Станислав Шаталин.
Среди знаковых ученых, работавших в институте системных исследований – лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Канторович. Замдиректора – специалист по проблемам управления Борис Мильнер. Это были крупные деятели советской эпохи, яркие и блестящие имена.
…Теперь бы еще разобраться, чем эти «системные исследования» отличались от других, несистемных.
Институт, понятное дело, тоже занимался поисками священного Грааля, то есть универсального средства спасения советской экономики. Оптимизация, совершенствование управления, математические методы – ну что еще могло перезапустить мотор социализма? Как говорил один из ключевых ученых ЦЭМИ Виктор Волконский, «даже в 70-е годы, когда экономические темпы стали регулярно снижаться, мы думали, как бы сделать машину более быстроходной, а не о том, что могут отвалиться колеса».
У Гайдара поначалу не было в институте своей темы – работал по особым поручениям. Но потом появилась лаборатория, где у каждого сотрудника была «своя» страна. Гайдар должен был изучать опыт югославской экономики и сравнивать ее с советской.
Тихая улица Кржижановского, где находился тогда ВНИИСИ и куда ходил на свою первую работу Гайдар (недолго ходил, года через два институт переехал, правда, недалеко, на проспект 60-летия Октября, возле станции метро «Академическая»), пересекает шумную Профсоюзную. По ней ходит тот самый 26-й трамвай, на котором удобно было ездить от МГУ в ИНИОН, и она, эта самая улица Кржижановского, как и всё вокруг в районе Ленинского проспекта и «Академической», полна разными научными учреждениями. Так уж было запланировано еще с 1930-х годов.
Ленинский проспект, Профсоюзная улица, прилегающие к ней Вавилова и Кржижановского, проспект 60-летия Октября, Университетский, Ломоносовский и улица Косыгина – все это, вместе и рядом, удивительное «научное гетто» Москвы.
«После переезда Академии наук из Ленинграда в Москву в 1934 году, – пишут авторы справочника «Москва: архитектура советского модернизма», – ей была отведена особая роль в развитии Юго-Западного района столицы… Ленинские горы рассматривались как место, от которого символически расходится свет знаний… Выделенный участок был хорош с точки зрения обзора, но очень неудобен – на нестабильном склоне Москвы-реки, без адекватного общественного транспорта и со сложным подъездом для автомобилей. Зато сюда было удобно добираться самым выдающимся академикам, обитавшим в спрятанных в тени Ленинских гор виллах». Это – о самой Академии. Но вокруг высокого здания с затейливым золотистым козырьком, которое начали строить в 1967-м, привольно раскинулись десятки, а может, и сотни научных учреждений.
Сначала в этот район поселился «капишник» (закрытый физический институт, где работал С. П. Капица). Тут установили ядерный реактор. Но не первый – первый еще с военных лет находился в старинной усадьбе Черемушки-Знаменское, где до сих пор находится Институт экспериментальной и теоретической физики с его добротными академическими коттеджами, которые построили, похоже, то ли зэки, то ли пленные немцы. Недалеко, на Нахимовском проспекте, уже в 70-е годы возвели Институт океанологии имени Ширшова и Институт Дальнего Востока. Тут же рядом на Профсоюзной – ИНИОН, о котором мы уже говорили, и Центральный экономико-математический институт («над входом – бетонный мозаичный рельеф, по замыслу архитектора изображающий вписанную в квадрат ленту Мебиуса»). В районе одной только Гагаринской площади – целое ожерелье мощнейших научных центров: Институт теоретической физики, где работал Ландау, Институт неорганической химии имени Курнакова, где работал Сергей Вавилов, родной брат замученного Сталиным генетика Николая Вавилова. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
«Научное гетто» – это, конечно, специальная московская ирония – тихое, уютное, замечательное (хотя и внешне скромное) место в Москве, где под шляпой каждого пассажира 26-го трамвая может прятаться недюжинный интеллект и под старым тополем – квартира академика.
А вот и невысокие красные здания, в одном из которых ютился НИИСИ. Гайдар с товарищами обустраивал институт в новом помещении, ходил на субботники, таскал кирпичи и носилки с мусором. Рядом – уютнейший тихий Новочеремушкинский пруд: утки на пруду, мамаши с колясками, доминошники на скамейках. Пятиэтажки. Тихий, скромный, незатейливый московский уют.
Здесь он с особой силой ощутил, как «внешнее» время разительно отличается от «внутреннего». Как медленно и тягуче течет жизнь за окном.
То, что происходило в экономических системах государств «народной демократии», условно можно было назвать «хозрасчетным социализмом». Его-то и начала изучать в начале 1980-х специальная лаборатория, которую создавали во ВНИИСИ под руководством Вадима Павлюченко.
В институте уже год работал автор диссертации по экономическим реформам в ЧССР (Чехословакии) в 1960-е годы Олег Ананьин. Вместе с молодым Гайдаром, свободно читавшим на сербскохорватском и очень хорошо изучившим знаменитый «югославский опыт», они составили вполне работоспособный тандем.
Правда, Павлюченко как-то быстро рассорился с начальством – как в любом советском НИИ, здесь все было сложно, с многоходовыми интригами и непростыми отношениями.
Тем не менее в результате на рубеже 1980–1981 годов была создана новая лаборатория, которую возглавил Владимир Герасимович, пришедший вслед за Шаталиным из ЦЭМИ. Вскоре к Гайдару и Ананьину присоединились Вячеслав Широнин и Петр Авен, занимавшиеся до той поры скорее экономической математикой (Авен защищался под руководством Станислава Шаталина), Марина Одинцова, специалист по ГДР, друг Гайдара Виктор Походун, специалист по Венгрии.
Но это была не просто лаборатория. Это была компания друзей и единомышленников. Ананьин и Широнин станут участниками знаменитого семинара на Змеиной горке в 1986 году. Авен, друг Гайдара, – тоже докладчик Змеинки – станет министром гайдаровского правительства, бизнесменом, а потом и глубоким исследователем эпохи 1990-х, но уже в другой, не научной, а писательской форме. Походун – одним из первых сотрудников Егора в Институте экономической политики, любимом детище Гайдара в науке. Марина Одинцова потом будет работать в Институте экономики РАН и в Высшей школе экономики.
Единственный человек, с которым у Гайдара потом (но именно потом!) не сложились отношения, – руководитель лаборатории Владимир Герасимович.
«По моим впечатлениям, – вспоминал Олег Ананьин, – это было, как в книжке про “Трех мушкетеров”. Мушкетеры фехтовали во дворе и ждали, когда их Тревиль позовет; а тут играли в шахматы, это была бесконечная игра в шахматы, в ожидании того, что начальство сейчас даст задание. Главным мушкетером был Володя Герасимович».
«Три мушкетера» были любимой книгой Гайдара. Он перечитывал ее, как он сам говорил, десятки раз – когда хотел разгрузить голову, отдохнуть, поднять себе настроение, приободриться, да и просто так. «Мушкетерами» он считал, а иногда и прямо называл своих друзей – и в университете, и в лаборатории, где они встретились вновь. Теперь у него был свой дом, и он гостеприимно распахнул его двери перед «мушкетерами» – там, в Строгине.
Герасимович был несколько старше своих молодых сотрудников. Но он умел дружить – в те дни, когда лаборатория собиралась вместе, они обязательно выпивали, спорили и опять-таки играли в шахматы. Вообще атмосфера была дружеской и веселой, несмотря на научную субординацию.
«Атмосфера в лаборатории была довольно благоприятной, – продолжает Олег Ананьин, – не было обязаловки, у каждого из нас был свой присутственный день на неделе, а так можно было работать дома, в библиотеке, это не возбранялось. Но когда мы собирались вместе, было весело. Весело настолько, что мы порой продолжали свои посиделки и дома. Герасимович тоже любил бывать на этих “домашних” заседаниях лаборатории, причем он мог выпить довольно сильно. Его укладывали спать на диван. Вообще было ощущение, что он как-то довольно разрушительно относится к своей жизни. Но его жалели, во-первых, из-за бесшабашного характера, во-вторых, потому что у него была огромная близорукость. Он практически не мог читать и писать бумаги. Поэтому все важные решения мы принимали сообща, на словах. В этом смысле было не очень удобно – нас постоянно таскали к начальству и требовали снова и снова писать докладные к очередному заседанию совместной комиссии ЦК и Совмина по экономической реформе. Тогда ее возглавлял уже Николай Рыжков. Герасимович к такой быстрой работе по написанию бумаг был неприспособлен».
Романтический период жизни Гайдара довольно быстро закончился.
Ничто не предвещало такого развития событий, но Егор вскоре был вынужден развестись с первой женой Ириной – удар исподтишка нанес один из «мушкетеров», а именно Герасимович, его непосредственный начальник, что было еще более обидно и тяжело.
«Мне кажется, Гайдар после этого стал более осторожен с людьми, больше держал дистанцию… Такой открытости как раньше, я в нем уже не наблюдал. И это не только я так думаю», – говорил потом Олег Ананьин.
Говорить об этом нелегко, но долг биографов обязывает… Тяжело сказать, во всем ли был прав Егор, когда расставался с Ириной. Она в итоге вышла замуж за Герасимовича, но и этот брак через несколько лет распался.
Но Гайдары во все эпохи не терпели предательства. Егор в этом смысле не исключение, вариантов тут для него не было.
Станислав Шаталин вызвал начальника лаборатории Герасимовича и предложил ему написать заявление об уходе. Однако и сам Гайдар не мог уже оставаться в институте.
В эти месяцы он переживал не самый легкий момент в своей судьбе. Казалось, что рушится вся его жизнь…
Надо сказать, что «реальность» – та самая, которая существовала за пределами его вселенной-библиотеки, за пределами кружка, за пределами его обширных интеллектуальных занятий, – то есть сама жизнь, – медленно текущая, почти стоячая вода, заплесневевший рассол брежневской эпохи – вот эта реальность не в первый раз наносила ему удар или впрыскивала в него свой яд, что будет точнее.
Выросший в легкой и теплой обстановке родительского дома, где с раннего детства им любовались и восхищались, он, хорошо помнивший сладкие запахи детства – яблоневые и сливовые запахи свердловского дома, где над ними любовно кружили сестры Бажовы, где жил его любимый сводный брат Никита, запахи дачи в Дунине – запахи костра, и свежескошенной травы, глиняного берега Москва-реки, запах рассохшейся лодки и кислого вина, он сейчас резко ощутил свое взросление как прыжок через пропасть – а может быть, и падение в нее.
Да, «взрослый» мир постоянно показывал ему свое отвратительное лицо, заставляя замыкаться в скорлупе своего сознания.
Ведь Егор воспринимал мир – несмотря на всю его советскую заскорузлость – открыто и дружественно, а вот теперь что-то надломилось.
Такой же – очень тяжелой по последствиям – была и история с листовками, когда пришлось поссориться с Битовым и его подругой.
Были и другие истории, когда Егор вдруг понимал, что жизнь устроена совсем иначе, по другим законам, и их не распознать логически, их не вычислить и не построить из них закономерности, потому что это стихия, недоступная его пониманию.
Каждый раз это непонимание больно ударяло – он пытался понять и не мог, как и почему это происходит, и становилось еще больнее. И он еще глубже прятался в своем хрупком мире смыслов и творчества.
В этом – наверное, именно в этом – он был близок своему деду Бажову.
Но – с другой стороны – подобно деду Гайдару, он каждый раз после такого крушения, пережитого шока, после разрыва плавного течения времени, после жизненной катастрофы обретал второе дыхание. И оказывался как бы на новом, следующем витке жизни.
И тогда выяснялось вдруг, что крушение было пережито им не зря.
Мы уже говорили, что у любого кружка – во все времена, но особенно в ту эпоху – были свои типологические особенности.
Одна из них – закрытость, замкнутость, «катакомбность», готовность к изоляции и «жизни внутри», к автономному плаванию, без особой оглядки на социум. Острое недоверие к окружающему миру. Способность различать «своих» и «чужих», особенно в диссидентской среде. Способность выдвинуть из своих рядов лидера, вождя. Таким лидером, конечно, всегда и везде был Гайдар. Хотя он не был старше других, не обладал никакой властностью, формальным статусом, но ему хватало морального авторитета и интеллекта.
Другая особенность – напряженная, «густая», полная страстей и даже интриг, отношений и «выяснения отношений» атмосфера внутри кружка. Часто это было связано с «чисткой рядов», когда любой моральный проступок карался чересчур строго, и любое подозрение в доносительстве – было чревато полным остракизмом, даже без подтверждения вины.
Но было еще одно «кружковое» качество, которое не лежало на поверхности и не бросалось в глаза. Это была надежда на опережающее развитие. То есть на то, что происходящее в кружке имеет высокую социальную значимость. Несмотря на общее мнение окружающих, что это «никому не нужно» и «ни к чему не ведет» и что «это опасно».
Нет, кружковцы не могли не верить в то, что они делают что-то очень важное для страны и очень скоро, уже в обозримом будущем, по крайней мере при их жизни, – все «это» будет востребовано обществом. Верили и поддерживали друг в друге эту веру.
Эта надежда на опережающее развитие была свойственна и гайдаровскому кружку – и в зачаточном, то есть почти домашнем его состоянии, когда это был просто кружок московских интеллектуалов, и в состоянии уже более полном, когда москвичи и ленинградцы объединились.
Но еще в самом начале пути, то есть в 1981–1982 годах, когда Гайдар и его друзья работали в институте системных исследований, эту надежду поддерживала в них и некая зыбкая внешняя реальность – реальность новой попытки правительственных реформ. От Комиссии по экономической реформе при Политбюро, наделенной высочайшими полномочиями, они поначалу, по молодости лет, ждали многого. Но это была далеко не последняя «высочайшая комиссия», в работе которой принимал участие Гайдар.
Вообще у советских «высочайших комиссий» была своя интересная предыстория.
С 1972 года лучшие экономические и технические умы страны участвовали в подготовке первой Комплексной программы научно-технического прогресса (КП НТП). Глава ЦЭМИ (Экономико-математического института) академик Николай Федоренко, экономисты Александр Анчишкин, Юрий Яременко, Николай Петраков, Станислав Шаталин, Борис Ракитский, Евгений Ясин и еще 270 (!) специалистов пытались построить научно-технические прогнозы развития страны.
Результатом был «талмуд» невероятной толщины и мощи. 17 томов (!) программы, не считая сводного, были готовы к весне 1973 года, прошли обсуждение на совещании у председателя Совета министров Косыгина. В 1974-м Госплан принял постановление об учете материалов программы в подготовке плана десятой пятилетки.
Да, на этот «талмуд» возлагали чуть ли не последние надежды все прогрессисты из огромной системы ЦК, Совмина, Академии наук, Госплана и т. д. и т. п.
Работу возглавлял вице-президент АН СССР Владимир Котельников, а присматривал за ней лично президент академии Мстислав Келдыш. Тогдашний работник ЦЭМИ, а впоследствии близкий сотрудник Гайдара, его редактор Леонид Лопатников, вспоминал: «Решающим доводом против включения того или иного радикального предложения в текст зачастую было пресловутое “наверху не поймут!”.
Так и писали, сами себя держа за руку».
Но на этом игра в модернизацию экономики была закончена. Пар ушел в свисток. «Косыгинские реформы» приказали долго жить. Аналогичные программы готовились тогда к каждой пятилетке, что мало влияло на реальное положение дел.
Тогда еще далеко не все авторы программы догадывались, что они перепутали причины и следствия. Справедливо полагали, что источник роста – научно-технический прогресс (на который, к слову сказать, тогда молилась вся советская общественная наука). Но ошибались в том, что научно-технический прогресс можно спланировать. И совершенно не учли, что он – прямое следствие развития открытой рыночной экономики, основанной на частной собственности.
Последним заметным приступом реформаторства в доперестроечные годы как раз и стало то самое постановление 1979-го «Об улучшении планирования…», о котором так страстно спорили на картошке Чубайс, Ярмагаев и Глазков.
Вот что говорил позднее Яков Уринсон: «Готовился тогда знаменитый пленум ЦК КПСС по производительности труда и научно-техническому прогрессу, поскольку всем было ясно, что в науке и технике мы уж точно отстаем. Мы умеем сделать лучшую в мире ракету, или лучший в мире танк, или подводную лодку, но массовую продукцию на базе НТП производить не можем. Поэтому сначала Новиков и Кириллин, а потом вместе с ними Байбаков, Гвишиани и другие попытались под лозунгом научно-технического прогресса вернуться к косыгинским реформам».
В июне 1979 года руководству страны был представлен отчет «О комплексных мероприятиях по повышению эффективности народного хозяйства, дальнейшему улучшению планирования и ускорению научно-технического прогресса».
Вот некоторые констатации того доклада. «Трудно найти такую товарную группу, на товары которой спрос удовлетворялся бы полностью». «По ориентировочным оценкам, в 1970 г. 20 %, а в 1978 году – уже 53 % прироста сбережений образовалось в результате неудовлетворенного спроса». В 1978 году телефонов в СССР было в 10 раз меньше, чем в США; компьютеров – в 100 раз меньше. В 5 % городов и 15 % поселков не было водопровода, в 30 % городов и 60 % поселков – канализации. «Неудовлетворенный спрос, порождая такие негативные явления, как… чрезмерное потребление спиртных напитков, развращает людей и наносит обществу не только экономический, но и громадный моральный ущерб». Показатели смертности растут. В 1971 году, в частности, младенческая смертность составляла 22,9 на 1000 родившихся; в 1975-м – 26,3; в 1976-м – 31,4. Это было в 1,5–3 раза выше, чем аналогичный показатель в развитых странах.
Доклад комиссии с этими чудовищно мрачными цифрами и разящими выводами читали, конечно, и секретари ЦК, и члены политбюро. Не верить выводам лучших советских ученых они не могли. Все это было чистой правдой.
Но для реализации реформ советским руководителям не хватало политической воли. Даже сам доклад комиссии засекретили. А возглавлявшему эту комиссию Владимиру Кириллину, видному теплофизику, академику и зампреду Совмина СССР, он стоил карьеры.
Владимир Мау по поводу приступов реформаторства 1979 и 1983–1984 годов писал: «В любом случае ни одна из проводившихся или обсуждавшихся реформ не предполагала изменения формы собственности. Это, кстати, был удивительный ментальный феномен, характерный для сознания наших экономистов (я помню это по себе). Тогда казалось, что либерализация экономических отношений без затрагивания вопроса собственности может дать существенный эффект. Сейчас это понять совершенно невозможно».
Ленинградцы двигались с москвичами на параллельных курсах, хотя не стояли так близко к высшему руководству. Дальнейшие поиски способов оценки системы и методов ее улучшения естественным образом привели Чубайса, Ярмагаева и Глазкова к созданию маленького кружка экономистов. Аргументы были найдены: коллеги написали совместную статью, которая уже в 1982 году была издана в бледно-сером межвузовском сборнике научных трудов. Основным критерием «оценки конечного результата деятельности предприятия», по мнению авторов, мог служить «лишь один показатель» – прибыль. «Другим важным элементом хозяйственного механизма… выступает система ценообразования, совершенствование которой должно осуществляться в направлении повышения гибкости и обоснованности цен».
Удивительным образом статья участников тайного кружка питерских экономистов увидела свет на совершенно легальной основе, пройдя все традиционные стадии проверок. Именно тогда обнаружился особый талант Чубайса прикрывать абсолютно запретные занятия официальными «крышами». А поскольку коллегам трудно было встречаться в ситуации, когда все жили в ужасных условиях питерских коммунальных квартир, ассистент кафедры ЛИЭИ Чубайс начал добиваться возможности проведения официальных семинаров.
Но до этого момента кружку Гайдара, с одной стороны, и кружку Чубайса – с другой надо было еще дожить.
А пока они варились в собственном соку.
Отличие гайдаровского кружка состояло в том, что они с первых месяцев своей работы во ВНИИСИ начали работать на новую «высочайшую комиссию», в которой активную роль играл сравнительно молодой секретарь ЦК Николай Рыжков. И порой им начинало казаться, что всё, что они обсуждают в узком кругу единомышленников, кому-то нужно. Что это всё не зря. Что это не просто «кружок».
Наступало сырое, рыхлое, пасмурное, как ранняя весна, переходное время начала 1980-х. Оно было по всем своим внешним приметам дико мрачным. В декабре 1979 года началась афганская авантюра. И если сначала казалось, что это всего лишь очередная «народно-демократическая революция», которая происходит где-то далеко от нас, то буквально через год стало понятно – нет, это настоящая война, в которую мы ввязались. Война и по масштабам наших военных потерь, и по масштабам потерь среди мирного населения (собственно, именно жертвы гражданской войны, которых было не менее миллиона, и имел в виду академик Сахаров в своей знаменитой освистанной речи в 1989 году на Cъезде народных депутатов СССР). Беспрецедентной эта война была потому, что ведь это было «мирное время», «разрядка» (впрочем, несколько лет как выдохшаяся), и, если верить лозунгам, советский народ отчаянно «боролся за мир», а советским правительством выдвигались все новые «мирные инициативы»!
А в это время недалеко, лишь в сотне километров от нашей границы, рекой лилась кровь – наших солдат, наших союзников, наших врагов и огромного количества простых людей.
В 1983 году советские ВВС сбили южнокорейский «боинг». «Провокация», как было сказано в советских газетах. На самом же деле – чудовищная человеческая трагедия, страшный международный скандал.
Но еще до «боинга» в связи с войной в Афганистане последовали жесткие международные санкции, резолюции Генассамблеи ООН, и никакие милые домашние радости Олимпиады 1980 года не могли этого скрыть (при том что спортсмены большинства стран отказались приезжать на нее или приехали вне состава национальных команд, под белым олимпийским флагом).
Егор знал все это из первых рук – его отец, работавший в «Правде», тяжело переживал афганскую трагедию.
В магазинах было уже не протолкнуться от очередей. Причем очереди приобрели характер тяжелого социального явления – в провинции по талонам приобреталось уже все сколько-нибудь необходимое, от стирального порошка до детских вещей, не говоря о продовольствии. Чтобы как-то прокормить своих работников, предприятия Тулы, Рязани, Калуги, Брянска и других близлежащих городов в выходные дни посылали автобусы в Москву. В магазинах стоял густой дух столпившихся в очереди несчастных людей, над которыми плыли истошные вопли продавщиц: колбасы только один батон в руки!
Автобусов не хватало, и люди самостоятельно садились в электрички, чтобы ехать часами за такой вот «программой выходного дня» – постоять в московской очереди. В 1990 году заместитель московского мэра Лужков введет так называемую «продовольственную карту москвича», которую выдавали в жэках по паспорту, и с этого момента и вплоть до гайдаровской реформы цен купить что-либо в Москве смогут только те, у кого была прописка.
Происходило постоянное закручивание гаек. Идеологические кампании становились все более тяжелыми по тону и по духу.
Андропов, пришедший к власти в 1982 году, начал с двух таких кампаний – «борьбы за трудовую дисциплину» и «борьбы с нетрудовыми доходами». КГБ активно распускал в обществе слухи о том, что удар будет нанесен по взяточникам, спекулянтам, растратчикам, то есть по тогдашним коррупционерам – нечестным людям, «жирным котам», которые чуть ли не на золоте едят, пока трудовой народ бедствует.
Действительно, арестовали зятя Брежнева – Юрия Чурбанова, расстреляли директора знаменитого Елисеевского гастронома Юрия Соколова. Но стало ли от этого лучше жить?
А вот прелести идеологических кампаний почувствовали на себе многие.
«Первые» отделы всех московских учреждений лютовали. Людей показательно увольняли с работы за десятиминутные опоздания, по магазинам, парикмахерским, ателье, прачечным и даже кинотеатрам в рабочее время ходили дружинники с красными повязками – отлавливали прогульщиков, составляли административные протоколы, сообщали по месту работы, выписывали штрафы. Было неприятно, попахивало антиутопией Оруэлла или Замятина, но глубоко в жизнь эта истерия все же не внедрялась. Чего нельзя было сказать о другой такой же кампании: борьбе с «нетрудовыми доходами». Отзвуки ее чувствовались довольно долго, затронув даже первые горбачевские годы. Вводились новые ограничения на размер приусадебных участков, на продажу урожая с этих участков. Все те же дружинники вместе с милицией отлавливали бабушек с клубникой и пучками зелени на московских улицах, рынках, возле вокзалов и станций метро.







