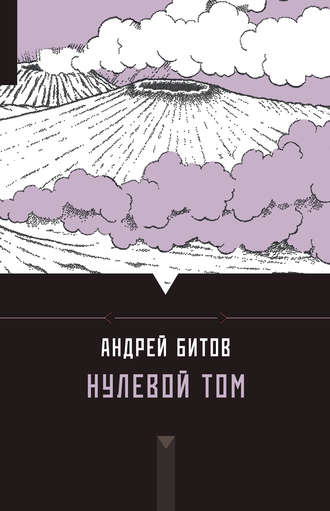
Андрей Битов
Нулевой том (сборник)
Пафли
– Слышал, слышал, – сказал Зарембо, встретив меня в раздевалке.
– Что – слышал?
– Уж слышал, – сказал он и, подмигнув, ушел.
Поднимаясь по лестнице, я почувствовал себя тем более странно. Что-то очень непривычное было на этот раз, хотя я ничего такого не мог заметить: все было так же. Я уже совсем поднялся, и тут столкнулся с Иваном Филипычем.
– Что же это вы? – сказал он.
– А что? – сказал я, и что-то во мне сжалось.
– А вам уж надо бы и самому знать, – сказал он.
И вот его нет уже, а я вдруг осознаю, что же было такого непонятного, когда я поднимался по лестнице. Вот уже сколько я по этой лестнице хожу, там всегда только одно слово нацарапано было: почему-то «Культя». Не может быть! Я спустился, внимательно осмотрел стену. И действительно – никаких следов… И тут опять Иван Филипыч появился. Ничего не сказал, только посмотрел.
Когда я входил в чертежную, все словно бы замолчали, приподняли головы и замерли, на меня глядя. Я тихо проскользнул к своей доске.
… – почему-то визгливо пропел Слоним и замолчал так внезапно, что тишина вроде бы звякнула, когда наступила.
Я принялся за дело, и вдруг до меня дошло. «Распрягайте, хлопцы, коней» – вот что пел Слоним. Вот оно, оказывается, что.
Солнце – просто ужас, какое солнце! И синица – влетела и повисла на форточке вниз головой и вертит ею. А я просто веду эту линию, веду и, кажется, всю жизнь только ее и веду, и буду вести. Бумага – белая, линия – черная, кнопка – блестящая, резинка – мягкая, доска – ровная, табуретка – круглая и вертится, синица висит вниз головой и ею вертит; капли капают, солнце – яркое и круглое; крутится; капли по стеклу, круглые, катаются; кнопки – блестящие, круглые, крутятся. Пожалуй, кроме этих четырех, надо еще четыре по середкам воткнуть, чтобы бумага не топорщилась… Кнопки блестящие… А где же кнопки? Кто взял?
Я подошел к Слониму.
– Ты не брал мои кнопки?
– Кнопки? Какие кнопки?
– Как какие! Мои… Простые, обыкновенные.
– О чем это ты? Да постой, что это с тобой?..
– А что?
– Ну ничего, ты не унывай… Но что это ты сегодня? Не такой какой-то…
– А какой же?
– А не такой.
Вот теперь не отгибается. Я веду и веду свою линию. До самого обеда.
Спускаюсь со всеми в столовую.
– Ну вот и ты с нами, – говорит мне Зарембо.
– А что тут такого?..
– Да нет, это я так…
Спускаюсь, смотрю на стену. Нет «Культи». А тут Артамонов. Задушевно так за руку берет и не выпускает, в своей держит, и пристально так на меня смотрит.
– Ну как ты, Петя?
– А что?!
– Ну ничего, ничего, – говорит Артамонов. – Это ничего.
В столовой опять солнце. Всюду слепит. Набрал всего на поднос – не знаю, куда сесть. Стою с подносом. Вижу, Слоним один сидит. Сажусь к Слониму.
– Что же ты, Петя, киселя-то не взял? – говорит Слоним.
– Как киселя?
– Ты киселя-то возьми.
Теперь и кусок-то в горло не полезет. Что это? Солнце слепит, Слоним сидит напротив, кисель пьет. Да полно, Слоним ли это?
И вот опять я веду и веду эту линию. Кнопки блестят, круглые. Капли еще капают. Синицы же нет. Рейсшину почистить надо – мажется. Синицы нет. Иван Филипыч подходит.
– Так, так, – говорит.
Я черчу, не оборачиваюсь, веду свою линию.
– Культю подхавали пафли, – слышу я из-за спины.
– Что вы сказали?! – говорю я.
– Я? Ничего. Что это вы, право?..
И отходит.
Я же черчу. Только что-то вдруг все на меня пристально смотреть стали. И не чертят уже, смотрят все и молчат.
«Да полно вам», – хочу сказать я.
Молчат. Солнце. Кнопки блестят. И чертежные доски отдельно так стоят, черные на солнце, на тонких ножках; ножки все мелькают – и словно бы все эти доски по комнате плавают и ножками перебирают.
«Ну что вы?! – хочу сказать я. – Не надо! – хочу крикнуть я. – Да вы что?!»
Молчат. Все словно бы расползается перед моими глазами, как мокрая промокашка. Серое такое, амебное…
«Спокойно, – говорю я себе. – Только спокойно. Культпоход завтра. Возьми себя в руки».
01.04.1962
Воспоминание
Эта бочка, совершенно непонятно почему, стояла на насыпи, причем так близко от проходящих поездов, что до нее можно было дотянуться рукой. Она была железная и пустая, а сразу за ней был длинный склон насыпи, и там, в глубине, под насыпью, до самого леска – огромная лужа. Бочка была рыжей от ржавчины, и на ней было написано 703-КЛ, но и эта надпись была уже рыжей. Невдалеке от бочки стоял маленький белый столбик с цифрой 7, отмечавшей очередные сто метров. А в другую сторону, и тоже невдалеке, стояла черная металлическая мачта, которая поднимает плоскую металлическую лапу с кругом-кулаком на конце. От этой мачты долго еще, до самой путейской сторожки, низко над землей тянутся интересные такие тросики. Побеленные же камушки, уложенные чуть не через каждый метр, тянутся вдоль всей линии аккуратной цепочкой. У этой мачты, внизу, даже растет трава, и несколько запыленных ромашек с трудом поддерживают свои головки. А под насыпью – там вообще море этих ромашек, до самого леска. Лесок из молоденьких сосенок – пушистый и веселый. Чуть подальше за ним течет ручеек, и один его изгиб виден с железной дороги: так он поблескивает. За ручейком длинное непонятное строение, и всегда одна и та же грустная лошадь пасется около него, и кажется: никогда не сойдет со своей точки. А там дальше луг и опять что-то вроде ромашек, до самого горизонта. А если нет дождя, то над всем этим еще голубое небо с редкими взбитыми облачками.
Так вот, бочка, старая и ржавая, стояла на высокой насыпи, у самой колеи, и внизу была лужа. По насыпи полз зелененький дачный поезд. На подножке одного из вагонов сидел Петр Иваныч и ехал на дачу. Он вез туда большую подушку. Он сидел на подножке, обнимал подушку, и подбородок его покоился вверху. Ему было очень удобно сидеть вот так с подушкой, и он дышал воздухом, который совсем другой, чем в городе. А дождя в это время не было, и поэтому небо было голубое, с редкими взбитыми облачками.
И Петр Иваныч увидел множество ромашек и пушистый сосновый лесок, за леском блеснул ручеек, и Петр Иваныч увидел длинное непонятное строение и эту грустную лошадь, а дальше луг и опять ромашки… Он глубоко вздохнул, и что-то переполнило его.
И тогда он увидел рыжую бочку прямо перед собой и так близко, что ничего не стоило до нее дотянуться. В тот же миг Петра Иваныча озарило. Будто полыхнуло.
Озарение – вещь мгновенная:
он увидел перед собой бочку —
и пнул ее ногой
в совершенно естественном желании посмотреть, как эта пустая железная бочка, которая еле держится на краю насыпи, покатится глубоко вниз по этой насыпи
и шлепнется в огромную лужу,
и сколько при этом будет шуму…
И вот что произошло:
бочка осталась стоять на месте, нисколько
и не шелохнувшись,
а Петра Иваныча с подушкой
не оказалось на подножке.
То есть совершенно невозможно себе представить, как закричал кто-то в тамбуре и как они кричали дальше, между тем как поезд, что совершенно естественно, далеко уже проехал мимо бочки, где-то под собой оставив Петра Иваныча и увозя кричащих в тамбуре. Вполне понятно, что через некоторое недолгое время поезд все-таки стал и из него вылетели и помчались назад по насыпи кричавшие в тамбуре и многие другие люди из поезда, может, даже весь поезд, и вот они высыпали и бежали назад по насыпи, рисуя себе ужасные картины.
И вот видят Петра Иваныча, если можно так сказать.
Он вырос вдруг, как из-под земли…
И вот он идет себе по шпалам им навстречу, широко и радостно улыбаясь, и в руках у него – две ромашки.
Апрель, 1962
Из моей замечательной корзины
а и б сидели на трубе
а упало б пропало
что осталось на трубе?
Загадка
Моя замечательная корзина
Сегодня моя тетка выбросила на помойку совершенно новую корзинку. Она всегда выбрасывает эти чудные корзинки, абсолютно не находя им применения. Сегодня я забрал эту корзинку. Такая замечательная корзина! Просто я удивился, как это я не догадался забирать их раньше. Белая, плетеная, аккуратная… Так у меня все без места, а тут я могу положить это в корзину. Очень современная у нее форма… Я положу в нее журналы, которые валяются где попало. Или я положу в нее газеты? Газеты копить ни к чему – только пыль. Впрочем, можно вместе: журналы и газеты. Можно складывать в нее грязные носки. Или всякие иголки, нитки, пуговицы. А можно поставить ее на стол, а в ней рассыпать – так красиво будет выглядеть! – букеты цветов, которые я буду собирать этим летом. Я положу в нее фрукты. Бананы. Ананас. Приспособлю ее под хлеб. Под сухари. Буду хранить в ней письма. Канцелярские принадлежности. Фотографии. Фотопринадлежности. Спортинвентарь. Гайки, гвозди и другие детали хлама. Курительные принадлежности и разных сортов сигареты. Бутылки с разным вином. Пустые бутылки. Веревки. Старые тетради. Библиотечные книги. Аптечку. Я сделаю из нее абажур – это будет замечательный абажур! Постель для кошки. Лучше заведу щенка. Бульдога? боксера? дога? ньюфаундленда? Лучше маленькую собачку. Ежа. Ужа. Какая чудная пепельница!!
А рукописи?..
01.04.1962
Чернильница
(Из рассказа «Бездельник», черновой вариант)
…Есть еще гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак. Интересна также иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить. Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки – зам. И так далее, и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверно, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Однажды, в самом начале, поручили мне эту чернильницу наполнить. Чернильницу руководителя. И я – конечно, это только я так догадываюсь – не бутылку с чернилами принес, а весь прибор забрал с руководительского стола и понес из кабинета, через наш огромный отдел, к бутылке с чернилами. Руководитель, помню, еще так удивленно на меня посмотрел, но я не придал значения. Да ведь и не только по нелепости своей понес я чернильницу к бутылке, а не наоборот. Не совсем ведь достойное вышло поручение… И захотелось мне подчеркнуть это. Туда еще ничего: на злости не заметил, как дошел. А обратно… чернильницы я, конечно, переполнил, так что чернила мениском своим торчали над краем… и вот несу, мелкими шажками такими переступаю, не дышу уже – какая там злость! – доска мраморная скользкая, чернильницы скользкие – по доске катаются, а между ними какой-то медный собор крышкой бренчит. И чего, думаю, он вечной не пишет… Доношу до самых его дверей, и тут как раз дверь отворяется – до чего ж хорошо получилось, думаю я, а то я все шел и страдал, как я дверь отворю… – распахивается, и в дверях женщина, и до того красивая, что такой ни разу у нас на работе я не видел. Выходит она – и я перед ней, с чернильницей. Я, конечно, глаза растопырил и галантно так в сторону отхожу, чтобы даму пропустить. И она, конечно, тоже отступает, чтобы пропустить меня с моими чернилами. Внимательно так на меня посмотрела. И до того мне тотчас неловко стало: чего это я чернильницы разбежался носить! А женщина отступила, дверь придерживает и говорит: «Вы проходите, проходите». И я прохожу. Боком почему-то, лицом к женщине. И тут этот чернильный постамент у меня чуть наклоняется, и чернильница с него на пол – прыг! – лежит так на боку, и аккуратная лужица по полу расползается. И я, конечно, – нет, чтобы плюнуть и идти дальше, нет! – держа прибор в одной руке, наклоняюсь подобрать – и тут – прыг! – вторая. Тоже на боку лежит. Рядышком. Вспомню – трясет. И еще трясет потому, что руководитель вроде бы все тогда понял и ничего мне не сказал. До того он у нас чуткий. Не стал размазывать. Лучше бы орал. А как уж он этой своей чуткостью все размазал!.. Лучше бы хохотал. Ведь смешно же! Ведь это же дьявольски смешно… Вот она чернильница-руководитель!.. Стоит себе. Покоится. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница…
Из цикла «Пипифакс»
(1962)
1. Подводя итоги
Чего я достиг?
7 Витек, и
5 Санек, и
1 Феликс непрочь со мной выпить…
Ну и что?
2. Холостяк
Вы набираете номер…
Вам говорят, что вы ошиблись…
Вы думаете, вы не туда попали?
Как бы не так!
Все подстроено.
У этих охотящихся женщин – знакомые телефонистки… Эти телефонистки… Нет, вы совершенно правильно набрали номер. Это они переключают мужчин. А вы замечали, что всегда, когда вы не туда попадаете, какие это все прия-я-ятнейшие женские голоса?..
3. Очень грустная история
Одна бабушка жила совершенно одна. Куда ей деньги? Деньги она прятала в валенок. Однажды села на сундук, отдыхает. Посмотрела на печь – думает: «Печь». Видит – валенки, думает: «Валенки». Ну да, валенки… Куда ей валенки? Стоят себе и стоят.
Отправилась на базар, продала валенки. Приносит деньги домой, хочет спрятать. Где валенок? Ну да, валенок… Ах ты, боже мой, господи, валенок!!
4. Чересчур большая рыба
А вот у нас большую-большую рыбу поймали. Акулу-кашалота. Большая-большая!.. Я как раз на работе был. Честное слово. Работал я тогда там. Кого хотите спросите. Работаю это я… А у меня там дружки были… Прибегают, говорят: акулу поймали! Большую-большую. Кашалота. Ну, побежал я с ними. Прибегаю, значит. И вот… действительно… лежит акула… большая-большая!
5. Триумф яйца
Что случилось с этим человеком? На нем лица нет. Лицо есть, но такое растерянное… Может, у него состояние?.. Когда все вокруг теряет радость и красоту? И все непонятно и бесцельно? Почему – для кого – зачем??? И вообще есть ли хоть один предмет?
А может, у него в кармане было яйцо всмятку? И он о нем совершенно забыл? Забыл и жил так, будто у него нет в кармане яйца? И когда полез в карман за сигаретами или за мелочью, то почувствовал – все это?..
6. Несколько слов о Бетховене
Вот только непонятно, почему, к примеру, Бетховен не писал научно-фантастических романов? Космос, например… Что, это ему было неинтересно, что ли? Не близко? Неужели его это не волновало? Безграничность познания и возможность достижения неужели были ему чужды? Неужто он не мог оторваться от окружающего его быта? И ему не хотелось помечтать о светлом будущем? Или, может, у него не хватало способностей? Воображения?.. Ну да, ведь он был глухой.
7. Пять сотых
Проголосовало 99,95 %, и я замечаю, что с детства, когда еще ничего не имел в виду, думаю об этих 0,05.
Я беру двести миллионов, делю на сто, умножаю на пять сотых – получаю
200 000 000
0,05
100 000
Кто они, эти сто тысяч?
Из цикла «Пипифакт»
(1962)
Теперь не то
Уж теперь не то, что было прежде!
Грустно мне, как вспомню о былом:
Раскрывалась сладко грусть надежде
И мечтам о счастии земном;
………………………
Жизнь теперь я лучше разумею;
Счастья в мире перестав искать,
Без надежды я любить умею
И могу без ропота терять.
Ю. В. Жидовская«Чтец-декламатор», 1908
Кто?..
На перроне стоял почетный караул, мимо которого провели Ильича и всю нашу эмигрантскую братию, потом нас посадили в автомобили, а Ильича поставили на броневик и повезли к дому Кшесинской.
Из воспоминаний старого большевика, 1961
Комиссары…
…Дакаленко, Петленко, Кошелев, Брюзгин и Плохов.
Хотя вождь умер…
Одним из основных условий подготовки полноценного, всесторонне образованного работника советской музыкальной культуры является глубокое и творческое овладение марксистско-ленинской наукой, знание которой, как учил нас товарищ Сталин, необходимо для людей всех профессий. Марксизм-ленинизм формирует весь склад музыканта, его облик. Советской стране нужны не узкие профессионалы и индивидуалисты, а активные деятели искусства, способные внести достойный вклад в советскую музыкальную культуру.
До сих пор мы имеем факты беззаботного отношения к изучению марксистско-ленинской науки. Студент Ясневский, обладая определенными данными по специальности, проявляет полную беспомощность в вопросах марксизма-ленинизма. Он растет музыкантом-ремесленником, не способным к подлинному творчеству, ибо не понимает задач советского искусства. Не считают для себя нужным и обязательным изучение гениального труда товарища И. В. Сталина и материалов XIX съезда партии студенты Копылов, Иоаннисиани, Лейбенкрафт и другие. И это в то время, когда труд товарища…»
Из многотиражки Ленинградской консерватории «За музыкальные кадры», 1953
Низкое давление
Беседуя с конструкторами, Н. С. Хрущев дал ряд практических советов, как изменить систему сцепки, чтобы смену тележек для измельчения соломы производить без остановки комбайна.
– Будет большая ж экономия и времени, и горючего, – подчеркнул Никита Сергеевич, – и производительность машин повысится.
На этом же поле, где только что убрана озимая пшеница, работал новый, необычного вида, большой колесный трактор мощностью 130 лошадиных сил. Он производил глубокую вспашку земли пятикорпусным плугом со скоростью 9 километров в час. Транспортная скорость этой машины достигает 35 километров. Никита Сергеевич заметил, что для этого трактора нужно сделать шины низкого давления, чтобы он мог работать так же производительно и ранней весной на влажной почве.
После осмотра хозяйства председатель колхоза Г. С. Могильченко пригласил Н.С. Хрущева и сопровождающих его лиц к себе в дом на завтрак.
«После XXII съезда»
Пророчество
Дружески настроенная к нам американская писательница Бесси Битти после пребывания своего в Поволжье в голодный 1921 год встретилась в Москве с Лениным и спросила его: «Что передать Америке?» Ленин ответил: «Так и передайте: “Мы не завидуем ей даже в нашем нелегком положении. Она богата, мы бедны, она сильна, а мы еще очень слабы, она, быть может, даже сыта, мы… – он умолк, сурово взглянув на небо. – Но у нас есть то, чего нет у нее, – вера. А это даст нам все: и силу, и хлеб… много хлеба”».
Так сказал Ленин в 1921 году.
Блокнот агитатора, 1961
1 мая 1961 года
Мы, сомалийцы, знаем о страстных выступлениях Никиты Хрущева против империализма, в защиту народов Африки, и говорим ему: сердечное спасибо!
Субер Эпо Осман и Абдул-Кадер Абукер Магди
Внешняя политика
Советско-турецкие отношения были омрачены в послевоенный период рядом осложнений. Однако Советский Союз и Турция – по-прежнему ближайшие соседи.
Пензенский почин
– На нашем призывном пункте – настоящий «урожай» на близнецов, – шутит майор из облвоенкомата. – Среди призывников восемь пар братьев-близнецов. Все они направлены для прохождения действительной службы в одну часть.
Армия
Около четырех миллионов человек в СССР играют в шашки. В их числе – более шестисот мастеров, восемь гроссмейстеров. Но популяризация шашек среди детей и юношества ведется пока слабо.
Вот в чем все дело
Туркмения: без осадков, плюс 26–31. Москва: ветер, дождь, утром минус 3–5.
Знай свой город
Одно из бывших помещений духовной семинарии (д. № 17) занимает лыжный цех катушечной фабрики имени Володарского.
Прикладное искусство
Интересны вазочки для цветов в виде скульптуры. В работе скульптора В. Пермяк изображена девушка, несущая корзины цветов. На дне корзины имеются отверстия, соединяющие корзины с «туловищем» вазы.
А что нового появилось в одежде мужчин?
В этом сезоне палитра мужской одежды обогащается зеленоватыми, изумрудными, синими цветами. В то же время самый модный – черный цвет.
Растет импорт
Вниманию потребителей!
Не давайте детям играть с этим мешочком.
Иначе если ребенок наденет по ошибке мешочек с головой, то он может задушиться, так как этот мешочек сделан из воздухонепроницаемой пленки.
Самое эффикасное средство, которое огромным успехом атакует перхоти, этот неприятный космический дефект.
Мазать корни волос, помощью ваты, легко массажируя, оставить так просидеть 20 минут при взрослых, а у детей 10 минут.
Надо употреблять очень внимательно, чтобы препарат не попал в глаза и в рот, чтобы не причинить отравления. Препарат СУЛЬФОСЕН пользуется только для устранения перхоти.
Япония
За рубежом
Некролог
Последний индеец племени ямана умер в аргентинском городе Ушуая. Родиной племени была Огненная Земля. В 1850 году оно насчитывало 3000 человек.
Яманы не имели никакой политической организации, слово старейшины считалось для них законом. Они были небольшого роста – всего около 150 см, жили в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Язык племени делился на 5 диалектов.
Полезный совет
Как быть, если ваш муж или сын порвал шерстяные брюки, зацепившись за гвоздь? Ответ на этот вопрос дает французский журнал «Рабочая жизнь». Оказывается, надо сдвинуть как можно ближе края разрыва, взять кусочек той же материи, густо смазать его яичным белком, подложить под разорванное место и пригладить с изнанки горячим утюгом.
Где третий?
Фернли Г.Р., Чакрабарти Р., Винцент Ц.Т. Влияние пива на фибринолитическую активность крови. Ланцет, 1960. Великобритания.
Предварительные эксперименты с участием 2 человек показали, что пиво из бочки и белое вино в значительной степени понижают фибринолитическую активность крови; виски, джин и чистый спирт не обладают этим действием.
Слабая психика
Хронофобия — безудержное стремление к уничтожению стенных часов.
Псевдолалия фантастика — навязчивое стремление сознаваться в краже вещей, которые не были украдены.
Танатомания — болезненное пристрастие к чтению некрологов.
Ретифизм — патологическая страсть к покупке ботинок.
Тафефобия — боязнь быть похороненным при жизни.
Уранофобия — боязнь улететь на небо.
Франция
На досуге
Один из играющих берет носовой платок и, сказав первую половину какой-нибудь пословицы, бросает его в кого-нибудь из играющих, а затем считает до трех. Тот, в кого брошен платок, должен тотчас же, пока считают до трех, сказать вторую половину какой-нибудь совершенно другой пословицы.
Например, бросивший платок говорит: «На то и щука в море…», ему же отвечают: «…а сам не плошай».
Чем несообразнее получается ответ, тем больше в нем юмора. Не успевший ответить выбывает из игры.
Из отрывного календаря






