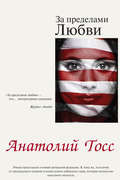Анатолий Тосс
Американская история
Посвящается маме
Глава первая
Последнее время я заметила за собой некую странность – у меня появилась потребность быть одной, хотя бы иногда, хотя бы недолго. Я попыталась разобраться, почему она возникла, и решила, что, может быть, желание одиночества, во всяком случае временного, отчетливее проступает с возрастом. А может быть, все проще – я слишком много на виду, слишком много людей вокруг меня, и это утомляет, и я устаю, и мне надо вернуться к самой себе, чтобы собраться и заново оценить, что важно и почему, чтобы снова продолжить именно с этой постоянно меняющейся точки отсчета. И потому, наверное, что расписание мое забито встречами, телефонными разговорами, коллегами, пациентами и другими очень важными людьми и делами, да, поэтому, наверное, единственное место, куда я могу от всего ускользнуть, это ванная комната.
Ведь действительно странно, что именно ванная и есть самая изолированная часть любого жилого помещения, изолированная от взгляда, от звука, от всего, что и определяет подслушивающий, и подглядывающий за тобой, и, в любом случае, отвлекающий внешний мир. Даже вода из крана, кажется, для того и предназначена, чтобы растворить в ритмике своего шуршащего напора упрямо прокравшиеся извне звуки.
Сначала мой взгляд ловит блестящую поверхность зеркала и останавливается на себе, а потом поглощает и все остальное лицо, к которому я за столько лет все еще не привыкла, которое все еще вызывает мое удивление, но которое, я уже уговорила себя в этом, и есть Я.
Неужели, думаю я, надувая левую щеку, чтобы рассмотреть вот такую ее новую форму, а на самом деле сгладить морщину у носа, неужели это отражение и есть я. Неужели это немножко удивленное выражение, как бы слегка смеющийся взгляд, эта едва заметная горбинка на носу и чуть-чуть припухшая нижняя губа и определяют меня в представлении других. И почему, если это так, они никак не связаны со мной в моем сознании.
Не странно ли, что посторонние ассоциируют меня именно с этим изображением в зеркале и даже относятся ко мне лучше или хуже, в зависимости от того, нравится оно им или нет. Тогда как для меня оно, в общем-то, не очень знакомое, а иногда даже чужое и уж точно никак не ассоциируется со мной. Ведь это парадокс: я вижу свое лицо, которое как бы и есть Я, значительно реже, чем многие другие люди, только в зеркале, чаще по утрам, да и то когда хватает времени, а это значит, что те, другие, знают и разбираются в деталях меня лучше, чем я сама.
Но я-то знаю, что я не связана с этим лицом, не упрощена до его примитивной трехмерной формации, – как ему, бедолаге, выразить меня своим ограниченным набором мимических средств, когда даже мое, куда более сложное сознание не берется за такую обременительную работу.
Ну, это ты уж загнула, обрываю я себя, при чем здесь сознание? И вообще, зачем так сложно, с собой не мешает быть попроще. Перед кем выпендриваешься? Рядом-то никого нет. Да, вздыхаю я, как бы оправдываясь, вот что привычка вытворяет с человеком. Даже поболтать со своим отражением по душам не удается – все равно как будто лекцию читаю. Какая-то ты, подруга, поучительная вся стала.
Впрочем, взгляд не отвлекается на словесное кокетство, а продолжает методично внедряться в черты лица. Может быть, снова думаю я, мое лицо такое чужое для меня, потому что оно всего-навсего персональный инструмент, устройство, изнутри которого я наблюдаю за миром. Вот и получается, что мне ни к чему видеть его со стороны, главное – умело пользоваться.
Я смотрю на себя внимательно, скорее с любопытством, как будто пытаюсь найти что-то, о чем еще не знаю. Неужели, думаю я, мне скоро тридцать пять? Странно, я не чувствую себя даже тридцатилетней, так, может быть, лет на двадцать семь, двадцать восемь потяну, но не больше. Почему-то я по-прежнему ощущаю себя совсем девчонкой, и мне приходится постоянно контролировать себя, чтобы не выдать и так не очень прячущуюся несолидность: не засмеяться уж очень громко или не сморозить что-нибудь совсем легковесное в разговоре. Я должна постоянно заставлять себя выглядеть и звучать солидной, хотя, конечно, не такой уж совсем занудливо солидной, как все остальные. Но это уже персональное мое, стиль.
Ан нет, я вглядываюсь в себя внимательнее, все-то ты хорохоришься, а посмотри, вот новая морщинка под глазом, и кожа на лбу не такая уж гладкая, и вот здесь на шее тоже что-то пытается оттопыриться, и хотя пока незаметно еще, только при ближайшем рассмотрении, но все же. Интересно, что сказал бы Марк, если бы мы увиделись, вернее не сказал, а подумал, но я все равно бы, конечно, различила.
Ладно, я теперь начинаю утешать саму себя, подумаешь, тридцать пять, ему самому было столько же, когда мы познакомились четырнадцать лет назад. Четырнадцать лет – ведь это немало, снова удивляюсь я, и удивляюсь искренне, потому что не могу как абстрактную бесконечность, вместить этот временной промежуток в свое ограниченное понимание.
Марк. Почему стоит мне подумать о нем, мое настроение меняется-я грустнею. Почему когда я думаю о нем, когда закрываю глаза или просто расслабляю взгляд и слышу его голос, спокойный и даже иногда холодный, какая-то нелепая пружинка начинает закручиваться глубоко внутри меня, где-то там, где начинается дыхание, и я чувствую растерянность.
– Я, конечно, все еще люблю его, – говорю я вслух, чтобы слова попали в самые мои зрачки.
Наверное, я люблю его совсем не так, как раньше, когда мы были вместе. После всего того, что произошло, я не могла не измениться, как и не могло не измениться мое к нему отношение. Тот почти мистический образ, почти беспрекословно святой и в то же время родной и домашний, который он создал в моем сознании, рассыпался, превратился в труху, в пыль.
Конечно же, я не могу чувствовать и думать о нем так, как я чувствовала и думала тогда. Конечно, любовь моя изменилась. Стала ли она сильнее от утраты или слабее от злой памяти и прошедшего времени? Не знаю, не думаю.
Любовь ведь не ручка шкалы изменения громкости на приемнике: двинешь вправо – звук становится громче, налево – звук становится слабее. Нет, любовь не изменяется ни по горизонтали, ни по вертикали. Изменяясь, она переходит в другую плоскость.
Не помню, кто именно сказал известное: «от любви до ненависти один шаг», а Наполеон, это-то я знаю точно, добавил: «как от великого до смешного». Но что, если этот шаг выродился в точку, в мгновение, в биение сердечной мышцы?
Что, если любовь и ненависть, великое и смешное, божественное и низменное – все слилось воедино и, слившись, бесконтрольно перемешалось друг с другом? Да, я люблю его, повторяю я, и зрачок мой в зеркале привычно сужается до размера игольного ушка. Но я и ненавижу его. Да, пусть так, я по-прежнему боготворю его, но также и презираю. Я знаю, я обязана ему всем, чего добилась, знаю, что он жертвовал временем, не просто временем – годами, своим творчеством, энергией, своей душой, в конце концов. И я неизменно буду благодарна ему за это.
Но в то же время, когда я говорю себе, что стояло за этими жертвами, когда я понимаю, что каждый шаг, каждая фраза, каждый взгляд его были направлены только на то, чтобы привести его к цели, цели, продуманной и просчитанной с самого начала, моя наивная благодарность растворяется в беспомощном и оттого еще более яростном презрении.
Хотя, спрашиваю я себя, была ли его любовь, его чувства ко мне, были ли они так же фальшивы и расчетливы и так же заранее просчитаны, как и конечная цель? Нет, отвечаю я себе.
Я думаю, что нет, я знаю, что нет. Я верила в это тогда, и, самое смешное, продолжаю верить сейчас. Это-то все и запутывает окончательно.
Впрочем, почему бы и нет, почему бы моим чувствам не быть такими же запутанными и противоречивыми, как и сам Марк? Не являются ли чувства, испытываемые к человеку, пусть субъективным, но отражением этого человека? Я представляю головоломку, мозаику, состоящую из тысяч деревянных раскрашенных кусочков, каждый неправильной формы, из которых, если их верно сложить, получается цельная картинка. Так и он сам, так и мои чувства к нему. Только поди сложи эти разноцветные кусочки.
Глава вторая
Записки мои не об этом, и потому лишь упомяну: я уехала из России в возрасте девятнадцати лет. К тому моменту как я познакомилась с Марком, я жила в Бостоне уже два года, одна, без родителей, так как они решили остаться в Москве.
Я встретила Марка на вечеринке, куда меня пригласили мои студенческие друзья и где собрался разношерстный народ, в основном незнакомый друг другу.
Я позвала с собой Катьку, свою еще московскую подружку, с которой мы однажды встретились случайно в Бостоне и, узнав друг друга, притянулись и стали близки, подпитывая дружбу общим прошлым и, главное, общим настоящим. По московской привычке, я звала ее не Катя, а Катька, так же, как и она звала меня Маринка вместо Марина, и эта фамильярность, кажущаяся естественной для нас обеих, но не позволительная ни для кого другого, дополнительно подчеркивала нашу близость.
Катька была восхитительно рыжей и я бы даже не сказала высокой, а скорее величественной, более того, роскошной, с крупными формами, отточенными чертами лица и завораживающими глазами, полными переливающейся лазурной прохлады. Не то чтобы она совсем не была зациклена на своей красоте, о которой ей не давали забывать ни разрывающийся от звонков телефон, ни взгляды мужчин на улице, но относилась к ней скорее спокойно и как бы даже философски, типа: «Ну что ж теперь, если уродилась такой?»
Вообще любой человек, одаренный от Бога талантом – а природная красота – это тот же талант, как, скажем, красивый голос или абсолютный слух, – пусть даже не желая того, пусть подсознательно, но талант свой пестует, пытается выставить наружу, как любой нормальный человек хочет продемонстрировать свою самую сильную сторону. При этом, как правило, делая упор на выдающемся качестве, постоянно культивируя его в себе, зачастую талантливый человек приносит в жертву другие свои качества, не обращая на них должного внимания, запуская и, более того, часто эксплуатируя их ради того единственного большого, на которое он сделал ставку. И это обидно, потому что гармония отступает под напором однобокости, и человек подсознательно зацикливается на своей так бережно взлелеянной способности.
Так же и с красотой, даже не так же, а хуже. Потому что она больше зависит от времени и быстротечнее любого другого человеческого свойства. К тому же она постоянно на виду, ее не спрячешь за фасад ни новой профессии, ни увлечения, и оттого не можем мы простить ее потерю тем, кто когда-то был ею награжден. Именно поэтому, наверное, так философски печально нам встречать людей, не удержавших ее, – мол, вот что делает с человеком жизнь.
Но Катька, будучи в целом небезучастной к своей красоте, подходила к ней как бы снисходительно, свысока, не позволяя той доминировать над собой. Этот ее постоянный ироничный подход, как к себе, так, впрочем, и ко всем другим, граничащий иногда с чисто московским цинизмом, и был тем ностальгическим магнитом, который, помимо прочего, притягивал меня к ней.
В Москве она училась в университете на юридическом, но здесь идея профессиональной карьеры представилась ей уморительной, и она небезосновательно, хотя чисто интуитивно, определяла и готовила себя для другого, не уточняя, впрочем, для чего; во всяком случае, вслух.
Мы сидели с Катькой, глубоко откинувшись на спинку дивана, и злословили, по-русски, конечно, обо всех присутствующих – обо всех без исключения – и наконец дошли до Марка, и, наверное, тогда в первый раз мой взгляд пристально остановился на нем.
Он отличался какой-то расслабленной небрежностью в позе, и, казалось, эта небрежность незаметно переходила на весь его облик, даже на одежду. Но небрежность эта, я сразу поняла, была умышленная, заготовленная, потому что одежда, которая была на нем, стоила недешево и шла ему. Длинные, волнисто-вьющиеся волосы также выделяли его среди коротко подстриженных аккуратных ребят.
Потом я часто говорила себе, что влюбилась в него именно в тот момент, когда увидела в первый раз, хотя если честно, то, наверное, это было не так. Тем не менее я, безусловно, обратила на него внимание. Он отличался от всех других очень похожих мальчиков именно тем, что не был похож на них. Во-первых, он выглядел явно старше остальных, я бы ему дала лет тридцать, хотя, как я потом узнала, он был старше. Разница даже в шесть-семь лет в этом возрасте существенная, хотя и приковывала к нему взгляд, но в целом говорила не в его пользу, так как мужчины постарше, как, впрочем, и женщины, на вечеринках более молодых всегда выглядят подозрительно.
Катька незаметно повела ногой, боднув меня коленкой, и, не боясь быть понятой, взглядом определив Марка как предмет своей мысли, сказала вслух то, что мне говорить не хотелось:
– Посмотри на этого, на красавчика загадочного. Чего это он тут делает, как не девок снимает. Эх, – добавила она, – может, и мне повезет.
Собственно, может быть, это предположение и явилось причиной, почему я, ну и конечно, Катька тоже, обратили на него внимание, – чтобы не пропустить момента, когда он приступит к активным и со стороны всегда развлекательным действиям. Впрочем, надо сказать, что через какое-то время мы утомились в ожидании, так как если он и находился здесь, чтобы «снимать девок», то делал это крайне нерешительно: за весь вечер он, кажется, не проронил ни слова, стоял, прислонившись к стене, с бутылкой пива в руках, и участвовал в разговорах только разве что немного застенчивой улыбкой.
Я знаю, я не могу сейчас объективно оценить его внешность по той простой причине, что, любя так долго, я стала искренне считать его, и продолжаю в это верить и сейчас, очень привлекательным, если не просто красивым, хотя, конечно, не той манекенной красотой мальчиков из рекламы мужского одеколона. Но, повторяю, я не судья.
Ведь все дело в отношении, ведь одни и те же черты и, даже более того, одни и те же привычки и поступки могут либо нравиться, вызывать умиление и даже восторг, если любишь человека, совершающего их, и, наоборот, оставлять безразличной и даже досаждать, вызывать раздражение, если ты к человеку безразлична.
Например, я помню: когда Марк болел, и лежал потный, небритый, постоянно сморкающийся, и разбрасывал вокруг себя бумажные трупики использованных носовых салфеток, я с удовольствием, требующим психоанализа, подбирала их, и с неведомым мне прежде самозабвением ухаживала за ним, и особенно любила подойти, и наклониться, и потрогать губами его лоб. Я испытывала при этом почти материнское умиление, и весь он сам казался таким родным, домашним, милым в своей неестественной детской беззащитности. Но оттого, что это был не ребенок, а большой, и обычно сильный, и часто подавляющий, и иногда очень взрослый Марк, мое временное физическое превосходство только добавляло к моей нежности нечеткий, но волнующий привкус несколько распущенной изощренности.
Хотя, с другой стороны, если бы на месте Марка лежало какое-нибудь другое больное тело, с воспаленными глазами, поросшее щетиной, я, конечно же, испытывала бы естественное чувство сострадания, но необходимость постоянно ходить за этим телом и подбирать насквозь сопливые салфетки вряд ли вызывала бы у меня чувство умиления, а скорее злобное непонимание: ну почему свои сопли, хоть и прилипшие к бумаге, надо разбрасывать где попало?
К дивану, на котором мы сидели, подошли двое ребят, оба опрятно одетые, аккуратно причесанные, даже на расстоянии источающие бодрящий запах мужской молодежной парфюмерии. Сразу было видно, что эти серьезные англоязычные юноши пришли на вечеринку в надежде с кем-то познакомиться, в смысле с нами, с девушками, и вот сейчас в качестве цели определили Катьку и меня. Они стояли какое-то время рядом, беседуя друг с другом, бросая на нас короткие оценивающие, впрочем, весьма не холодные взоры, не решив еще, видимо, какой именно первой фразой завязать с нами далекоидущий разговор.
Я, хотя непонятно почему, но тоже вдруг заволновалась, ощущая сосущее напряжение, которое, наверное, испытывает животное, чувствуя себя выслеженным начинающейся охотой. И ощущение опасности, и боязнь быть пойманной, и странное, почти эротическое возбуждение от погони – все вдруг разом сливается в этом напряженном волнении. В конце концов один из ребят неизощренно полюбопытствовал:
– Извините, девчонки, вы на каком языке говорите?
– На русском, – без тени кокетства, так что безразличие и меланхолия полностью смешались в интонации, ответила моя подружка.
– А почему не на английском? – попытался развернуть разговор настойчивый ухажер.
– А мы о вас говорим, – игриво перехватила я ниточку безвкусного обмена фразами. Впрочем, особенно игриво не получилось.
Тем не менее ребята сразу оживились, будто прозвучал трубный сигнал «в атаку».
– Значит, сплетничаете, – подхватил другой парень.
– Так точно. – Я склонила голову набок, заговорщицки улыбнулась и подняла брови, как то животное, на которое идет охота, когда оно вдруг неожиданно останавливается, и замирает на мгновение, и пристально смотрит на своих преследователей, как бы говоря удивленно: «Так вот кто охотится за мной».
– Смотри, Стив, как девчонки здорово устроились, сами отлично понимают всех вокруг, тогда как их разговор нам с тобой абсолютно недоступен. Получается, что у них перед нами очевидное преимущество, – сказал один из ребят.
Я согласно улыбнулась этому, в общем-то, правильному замечанию и сказала примирительно:
– Нам никакого преимущества не надо, мы не конкурируем здесь ни с кем. Хотя, конечно, это и есть настоящее уединение. Именно так я понимаю уединение, – и, посмотрев на ребят и заметив, что они не очень врубились, о чем это я, добавила снисходительно: – Я понимаю настоящее уединение как возможность быть, при желании, непонимаемой там, где ты понимаешь все и всех.
Один из ребят улыбнулся и сказал делано завистливым тоном:
– Вот бы нам так, – и, становясь более серьезным, добавил: – А сложно выучить иностранный язык с нуля и до нормального уровня?
– А его нет, нормального уровня, – возразила я и увидела, что они опять не поняли. – Видишь ли, язык – это бесконечность, это как Вселенная: поднимаешься на один уровень, а над тобой еще один, переходишь на него, а над тобой новые уровни. И как бы высоко ты ни поднялся, над тобой по-прежнему бесконечность.
Катька все это время сидела молча, справедливо полагая, что объяснять что-то этим мальчикам совершенно необязательно, и с величественным равнодушием рассматривала то бокал с вином, который держала, то свои удлиненные холеные ногти, лениво бросая взгляды ни на кого конкретно, а так, на окружение, но я-то знала, что несколько изящных колкостей уже приготовлены ею и для наших простоватых ухажеров, и для меня самой. Эта Катькина расслабленная поза сразу отрезвила меня, и я поняла, что говорю слишком серьезно в обществе, где никто к серьезности не готов, и, поняв это, широко заулыбалась, завертела головой, легонько захлопала в ладоши, как бы призывая к вниманию, и громко затараторила:
– Хотите, расскажу смешную историю, как раз про язык, в смысле языковую, ну, как раз про то, о чем мы говорили? – и обвела взглядом комнату, ожидая поддержки.
Поддержка последовала – от кого кивком головы, от кого взглядом, а от Марка – все та же улыбка, только, может быть, более внимательная.
– Значит, так, – выпендрежно начала я, – история длинная, займет время, и пусть никто, пожалуйста, меня не перебивает, а то я запутаюсь. Так вот, – я набрала побольше воздуха, – у меня есть приятель Лио, это по-новому, а раньше Лёней звался. Ты, Катя, его, наверное, знаешь, он когда-то, скажем так, ухаживал за мной и… – я выдержала кокетливую паузу, – как-то зазвал меня в казино, в Коннектикут. Значит, приехали мы туда, вошли в зал и обалдели. Я первый раз очутилась в казино, и Лио, как потом выяснилось, тоже. Ну, вы знаете, казино есть казино, куча всяких автоматов, всякие крупье во фраках с бабочками карты перемешивают, и народ с безумными от возбуждения глазами ходит от стола к столу, костяшками перестукивает.
Приятель мой, человек осторожный, рассудительный, денег на пустое занятие это выделил весьма ограниченно, но недостаток свой куркулевский с лихвой компенсировал горячим стремлением непременно их все просадить.
Сделали мы с ним кружок по немаленькому залу, и говорит он мне, что, мол, не понимает он ни хрена во всех этих автоматах и прочих рулетках, а знает он одну лишь старинную русскую игру «очко», которая, как выяснилось, пустила также корни и на казиношном Западе. Единственное, говорит мне Лио, надо бы мне правила в подробностях выяснить, а то, глядишь, не совпадут они с теми, знакомыми с детства, и пропадут все мои ограниченные средства понапрасну.
Посмотрели мы с Лио вокруг и видим, стоит невдалеке сотрудник ихний, казиношный, как и полагается, во фраке и бабочке, сам узенький такой, элегантный, холеный. Лио, будучи парнем, наоборот, широким и в плечах, и вообще, с киевской, Киев – это город такой на Украине, – пояснила я не осведомленному в географии собранию, – с киевской уверенностью решительно направляется к нему и, как я слышу, интересуется на самом что ни на есть английском языке, правда, с примесью украинского гэканья, в чем, собственно, правила этой вот карточной игры. Чувак же элегантный мало того что во фраке, так еще и отвечает, к полному неудовольствию Лио, хоть и с вежливой улыбкой, но с плохо Лио разбираемым британским акцентом.
Не знаю, зачем им потребовалось его из самой Британии выписывать, своих шулеров, что ли, в Америке не хватает. Ну, Бог с ним. Так, значит, стоят они оба, один с киевским, другой с йоркширским акцентами, и видно мне со стороны – не вполне они понимают друг друга, акценты мешают.
Но, повторяю, Лио парень настойчивый, я в этом потом сама убедилась, и позорного незнания приднепровских английских диалектов чуваку британскому не спускает, а все спрашивает: «А сколько у вас здесь кинг стоит?» – что означает: «Сколько очков за короля дается?»; «А сколько у вас здесь квин стоит?» – что означает: «Сколько очков за королеву?» Не думаю я, что фраза: «Сколько у вас здесь кинг стоит?» – является наиболее для казино грамотной, но понять Лио я лично запросто в состоянии: не знал он, как вопрос свой нехитросложный по-другому выразить на не совсем еще поддающемся языке, а потому избрал простейшую магазинно-покупательскую форму.
Тем не менее ответы свои он получает, и, понимаю я, начинает у них двоих контакт налаживаться. Но тут вдруг чувствую, что глаза мои непроизвольно расширяются, безумная улыбка начинает блуждать по отрешенному лицу, и боюсь я слово вымолвить, чтобы не спугнуть самого моего, может быть, счастливого за долгое время момента.
Потому что слышу я, как Лио, пытаясь спросить чувака: «А сколько у вас здесь туз стоит?» – вместо загадочного английского слова «эйс», означающего туз, употребляет куда более обиходное слово «эс», означающее, как мы все знаем, «задница». И понимаю я, что перепутал Лио эти два слова не по злому умыслу, а по той простой причине, что сложно различить такую, на самом деле, едва уловимую разницу уху, привыкшему к однозначному украинскому говору. И не то чтобы Лио не знал значения слова «эс», то есть «задница», но где-то слышал он раньше, что называли туза вроде бы как «эс», и даже подумал тогда с удивлением: не чудной ли этот английский язык, в котором слова «задница» и «туз» произносятся одинаково.
И вот спрашивает Лио узкоплечего и прочее чувака в бабочке: «А сколько здесь у вас стоит задница?» – искренне полагая при этом, что спрашивает: «А сколько здесь у вас стоит туз?»
Лицо у чувака в бабочке не то чтобы вытягивается, а скорее принимает форму сдавленного по бокам овала, и не понимаю я пока, то ли это от невыносимой обиды, то ли от еще не осознанной радости, и он, не веря услышанному, уточняет: «Простите, что вы сказали?» Лио, подвоха никакого не чувствуя, без тени сомнения в голосе вбивает непонятливому чуваку, что интересует его самый что ни на есть естественный для казино вопрос: «Сколько здесь у вас задница стоит?»
Смотрю я и вижу, что чувак вконец оторопел и, как становится мне ясно теперь, готов согласиться забесплатно – непривычно ему еще за это мзду взимать. Единственное, что, по-видимому, смущает его, это бескомпромиссный напор Лио. «Простите?» – повторяет он, притворяясь, что не понял. Лио, надо сказать, эта ситуация стала порядком раздражать. Отсутствие сотрудничества со стороны обслуживающего персонала не соответствовало его представлению о достоинствах общества свободного предпринимательства. Поэтому, уже с недовольными нотками избалованного клиента в голосе, Лио еще более напористо повторят: «Ну чего непонятно-то? Сколько задница стоит?»
Я, надо сказать, к этому моменту уже опустилась на корточки, не доверяя постепенно слабеющим и мелко трясущимся от беззвучного хохота коленкам.
Британский чувак, казалось, только и ждал этого последнего подтверждения своих, как я теперь уже точно поняла, самых что ни на есть счастливых догадок и вдруг, совершенно неожиданно для Лио и с более дружелюбной, чем официальная, улыбкой, представился: «Джон». Это явно сбило Лио с толку, но, решив не быть примитивно невежливым, он протянул руку и буркнул: «Лио».
Чувак схватил его руку и, не выпуская ее, что-то затараторил со своим, еще более усилившимся от неожиданного волнения, британским акцентом, из чего Лио только и смог уловить, что для решения этого деликатного вопроса чувак приглашает его в свой кабинет на втором этаже.
Не в силах сразу охватить вдруг изменившуюся ситуацию и подсознательно вздрогнув от слова «пройдемте», сказанного хоть и на английском, но всколыхнувшего не самые приятные воспоминания, Лио разом изменившимся неуверенным голосом произнес: «Куда пройдемте?»
– Ну как, – сказал Джон, все еще поглаживая широкую ладонь Лио с подступающим к запястью медвежьим волосяным покрытием, – ко мне в кабинет, – и он немного заискивающе улыбнулся, как бы намекая, что вот прямо здесь мы ведь не можем, люди кругом и неудобно как-то перед людьми. Но Лио – парень не то чтобы подозрительный, а, скажем, осторожный, и он не пойдет ни с кем никуда, пока не поймет совершенно ясно, для чего и зачем. И поэтому он задает понежневшему чуваку вполне естественный, хотя и немного растерянный вопрос: «А чем там лучше, чем здесь?»
В глазах чувака я, с трудом отползшая к ближайшему игральному автомату и подперевшая себя им, поскольку крайне нуждалась уже в стабильной опоре, прочитала смесь ужаса и радости неизведанного.
Не зная, на что решиться, и, по-видимому, решив узнать чуть больше о своем предстоящем партнере, он вдруг осмелился на совсем интимный вопрос: «Простите, – сказал он, – я слышу в вашей речи акцент, но не могу его идентифицировать. Если не секрет, вы откуда родом?» – «Я? – нерешительно переспросил Лио и, подумав, вдруг с неожиданной решимостью ответил: – С Украины». – «С Украины…» – почти в беспамятстве повторил чувак, и сдавленный стон радостного возбуждения сорвался с его влажных уст.
Мне следует пояснить вам, почему тон Лио вдруг претерпел неожиданную метаморфозу. Дело в том, что для Лио все разом стало понятно – и почему чувак представился ему, и почему он предложил пройти к себе в кабинет, а главное, почему чувак осведомился о его, Лио, стране происхождения.
Прочитав маленькую табличку на нагрудном кармане Джона, говорящую о высокой Джоновой менеджерской позиции, Лио вдруг понял, что чувак, проявив свои недюжинные психологические способности и распознав в Лио именно то, что так долго никто распознать не мог, хочет предложить Лио помочь казиношной компании распространить свой казиношный бизнес на украинские города и веси.
И оказалось, что не против уже Лио пройти в комнату на втором этаже, так как знает он, по старой фарцовской закалке, что серьезные деловые предложения не решаются на глазах у публики под трескотню игральных автоматов.
«Ну чего, пошли, – говорит Лио чуваку и, обернувшись ко мне и увидев меня сидящей на корточках с изможденным от счастья лицом, интересуется: – Марин, ты чего? С тобой все в порядке?»
Джон, увидев меня в более чем странной позе и определив во мне особь конкурирующего пола, сразу оценить изменившуюся ситуацию не сумел и, отпустив руку Лио, начал водить руками то в мою сторону, то в его, а потом почти беззвучно прошептал: «И она тоже?» Лио же, интерпретировав его жестикуляцию как имитацию движения раздачи карт, сказал, благородно заступаясь за меня: «А чего? А чем она хуже?»
Вечный вопрос: откуда что берется? Ну спрашивается, откуда, из какого такого неведомого резерва взялись у меня силы хоть со слезами, хоть и дрожащим голосом, но выдохнуть: «А чем я хуже? Моя эс стоит здесь столько же, сколько и твоя эс. И вообще, я тоже с Украины. Да, Лио?» «Да», – по-партнерски подтвердил Лио, считая, что я изменила место своего бывшего проживания, чтобы поучаствовать в раздаче казиношных украинских прибылей.
«С Украины… – как загипнотизированный, повторил чувак, и видно было, что последняя капля рассудка отступила под напором его смешанных чувств. – Пойдемте все вместе, – выдавил он из себя и добавил, начиная тяжело дышать: – Ко мне на второй этаж».
«Пойдем, Марин, – деловито сказал Лио, но тут игральный аппарат, поддерживавший меня, куда-то мотнулся, и я упала набок, подхватив руками живот, суча ногами так, что у меня слетела туфля, и так долго сдерживаемый яростный, сумасшедший хохот перекрыл доминирующее до этого цикадное щелканье игровых автоматов.
Тут сбежалась толпа, Джон в ней затерялся, вызвали медперсонал, мне давали что-то нюхать, а потом вывели на улицу, якобы дать отдышаться, а на самом деле чтобы я своей разнузданностью не отвлекала клиентов от незаметного, постепенного процесса расставания с деньгами.
Лио на мою сумасшедшую выходку страшно обиделся, будучи уверенным, что я послужила преградой к его возвращению в Житомир и прочие районные центры в завидной роли графа Монте-Кристо, и, по-видимому, из-за этой нелепой обиды ничего из нашей зарождавшейся дружбы так и не получилось. Хотя мне обидно, что не знает он, от чего я его уберегла. Много, что ли, мне надо, достаточно было бы простой человеческой благодарности.
Я выдохнула, обвела взглядом комнату, давая понять, что закончила. Во время моего рассказа присутствующие, особенно женской принадлежности, хотя смущенно, но нередко похихикивали, а порой мне даже приходилось выдерживать паузу, чтобы басовитый хохоток не заглушил части повествования. В общем, я оценила реакцию на рассказ как ободряющую и почувствовала себя реабилитированной за свою начальную несдержанную серьезность.