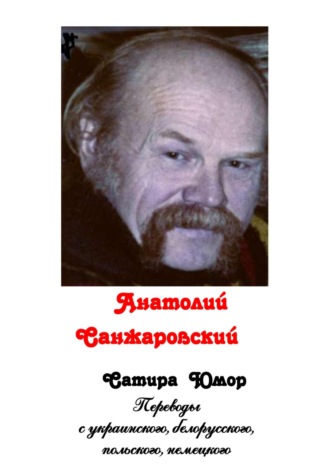
Анатолий Никифорович Санжаровский
Сатира. Юмор (сборник)
Нет житья
(Монолог летуна)
На заводе у нас черт знает что творится!
Контролер на контролере. Ужас! Каждый свой нос к станку сует, а настоящему рабочему житья нет. Буза!
Не выйдешь на работу – на черную доску вывешивают: «Прогульщик!» Опоздал на работу – штраф! А шуму того, шуму! «Срыв», «Прорыв», «Разрыв». Трах-тарарах-бах – и сразу штраф!
Я не говорю, что неправильно. Правильно. Раз не вышел на работу – наказывай.
Только разберись. Моть, я галоши по талону в рабкоопе добывал. А моть, я больной, моть, мне в Харькове уже и дышать нельзя. Моть, мне на Кавказе пора дышать.
Давай, говорят, справку от врача. Бузотеры! А врач кто? Разве врач понимает душу рабочего человека? Разве ему душа нужна? Ему аппендицит сам вынь да в мусорное ведро кинь… Прихожу неделю назад. Так и так, товарищ доктор, горло. Он посмотрел: «Чепуха. Работать не мешает». Вскипел я. Как не мешает? А моть, у нас воззвание ЦК обсуждаться будет, а я молчи? А, моть, я встречный план выставлю! Давай, говорю, ослобождение, пока живой!
– Да вы не умрете, – отвечает.
– Не я, а ты пока живой.
Дал, конечно. Такие у нас врачи. А инженеры, думаете, лучше? Ни подхода, ни линии к рабочему человеку. Был у нас на ХПЗ один такой. Не человек, а трудовой интеллигент.
– Продукция, – говорит, – у вас, товарищ Крикун, ни к черту не годится. Браку много. Подтянитесь! Нехорошо.
«Ах ты, – думаю, – гнида! Кому ж ты говоришь, а? Да, моть, я таких, как ты в семнадцатом без никоторого промфинплана тридцать семь штук в тачке вывез! А не веришь, так я тебе из дома контрольные цифры принесу. У меня записано. Из-за таких на заводе не удержишься, а потом говорят – летун, бездельник. И летаешь, потому не понимают рабочего человека. Разве летать – радость велика? Перешел я, к слову, с ХПЗ на „Свет шахтера“. Разве ж такие условия труда? Гудок не тот, трамвай не тот. Пивная далеко. Пока привык – неделю опаздывал. Мастер начал буровить. Свой же брат рабочий, а как мастером стал, так сразу на интеллигентскую точку потянул: „Продукция плохая, норма хромает“. Поучитесь, говорит, у наших ударников. Как сказал он это, так верите, у меня в нутре что-то перевернулось. Мне? Учиться? У ударников? У шпаны? Да, моть, я сам такой ударник, что уже и не знаю, по ком и ударять. Такая обида! Ну, думаю, ладно. Посмотрю я на твоих ударников. Хорошо. Подхожу…
Ну, товарищи-граждане! Такое увидел – выразиться не могу. Куриный смех. За ударного бригадира баба! В штанах, в кепке и курит… Ах!.. Ну! Браток, брось… Чтоб Петька Крикун у бабы учился! Не будет, браток, дела. Я, браток, бабу классовым врагом считаю. Меня баба раз так подсекла – вовек не забуду. На собрании обсуждали мы план. Беру я слово. „Да, – говорю, – так и так, неправильно составлен план. Переборщили. Разве можно, чтоб такие задания? Да и норма завышена“. После меня берет слово одна, значит, работница. Ну, баба. „Действительно, говорит, правильно заметил тов. Крикун – план составлен неудачно, не учли всех возможностей. Нормы выработки ошибочные, их надо увеличить“.
Как взяли меня на смех. „Что, – хохочут,-Крикун! Здорово тебя женский вопрос поддержал!“ Вот подвезла, гадюка! Тьфу! Под корень подсекла. Не могу я теперь на бабу смотреть. Разве понимает баба душу рабочего человека? Правда, теперь и мужики не те пошли. Свой брат, а присмотришься… Такая буза… Нет таких, чтоб настоящий рабочий. Чтоб свой в доску. Он или двадцатипятитысячник, или закон трактован до конца пятилетки. Тот соревнуется, этот кого-то на буксире тянет. Этот ударник, тот энтузиаст. Один выполняет, другой перевыполняет. Одного премируют, второму орден на блюдечке. Нет житья чистокровному рабочему! Эх! Трещит пролетариат!
Несчастные
Летом, начиная приблизительно так с июня и аж по октябрь, везде и повсюду на улицах, в садах, в театрах, в магазинах, в трамваях, поездах, учреждениях и т. д. появляется особая категория людей.
Не заметить их нельзя, они настырно лезут вам на глаза своим поведением, а чаще цветом загорелых лиц, нарочито оголенных шей, грудей, рук и ног.
Это – курортники.
Люди, которые только что вернулись с курортов.
Они громко разговаривают, рассказывают курортные анекдоты, смеются, корчат из себя веселых, жизнерадостных, беззаботных, счастливых.
Но не верьте им.
Все это – фикция, обман. Все это – для людского глаза.
На самом деле это несчастные люди.
Поговорите с ними внимательно и вы убедитесь, что это несчастнейшие люди нашей счастливой эпохи.
Я лично уже убедился, ибо разговаривал.
– Доброго здоровья, Кити.
– Ах, Сочи…
– И не думал менять псевдоним. Даже судебные исполнители уже привыкли описывать меня как Чечвянского. Как поживаете?
– Четырнадцать.
– Что?
– Взяла четырнадцать.
– Ах! Вы вон про что! Очень рад! Фунтов?
– Кило!
– Счастливая!
– Не очень. Против прошлого года не добрала кило.
– А-я-яй! Чем же объяснить такую катастрофу? Малым процентом озона в сочинском воздухе или, может…
– Ах! Какие там вазоны… Питание. Так намучилась!.. Масла мало, яиц мало, молока мало, мяса мало, хлеба мало, фруктов мало…
Иван Иванович! Здрас-с-с… Ишь! Прямо арап! На хлебозаготовках шпарились?
– Как раз… Из Ялты вчера вернулся.
– Из Ялты? Чудесно! Сколько взяли?
– Ой, не спрашивайте. Даже пуда не набрал.
– Неужели? Как же вы пережили такой удар? Подумать только: замдира треста и беспудовый, можно сказать, человек…
– Как пережил? Выстрадал. Вон как. Сплошная мука!
– Да в чем дело?
– Не знаете? С питанием ужас… Масла мало, сала мало, яиц мало, сыру мало, мяса мало, курей мало, винограду мало, хлеба, да и то черного, мало… Бывайте… Ох-хо-хо!
– Какой чудный загар! Евпатория?
– Новый Афон.
– Сколько взяли?
– Представьте, похудела.
– Да не может быть! И вы так спокойно про это говорите? Я всегда говорю, что сама природа назначила вас для героических поступков. Такой характер… Скала! Гранит!
– Скала. Уже неделю с этой скалы капают слезы. Подумать – похудеть после курорта… Весила пять тридцать девять, а сейчас пять тридцать четыре. Пять фунтов, понимаете вы, бездушный мужчина!
– Понимаю, понимаю, без пяти фунтов женщина. Да «как дошла ты до жизни такой»?..
– И не остроумно. Если б вы знали, как там с питанием.
– Да ну? Перебои?
– Кризис! Буквально кризис! Масла мало, сала мало, яиц мало, молока мало, сметаны мало, сыру мало, фруктов мало, кофе мало, какао мало, винограду мало, а мясо, представьте себе, исключительно баранина. Полтора месяца буквально выстрадали…
– А! Привет! Что это с вами?
– А что?
– Да так… Будто не умывались.
– Ха-ха-ха! Ой, уморил! Ей-бо! Вот чудак! «Не умывалась…» Да это ж загар!
– Такой грязный?
– Фи-и. Это специальный загар.
– Как же он делается?
– Э… Это уже не… Не скажу. Ни за что на свете. Секрет!
– Ну, ладно. А как вообще!? Вы где были?
– В Алуште.
– Хорошо?
– Великолепно! Знаменито! Анекдот новый слышали? На одном пляже лежит мужчина… Xи-хи-хи… Закрылся, понимаете, газетой… Xxи-xи…
– Слышал. Благодарю. А как с питанием?
– Ах! Боже мой! Я и забыла… Ужасно!
– Кризис?
– Где там… Тс-с-с…. Крах! Просто крах… Сала мало, мяса мало, икры мало, балыку мало, крабов мало, молока мало, сыру мало, сметаны мало, гоголя-моголя мало, белого хлеба мало, яблок мало, персиков мало, абрикосов мало, винограду мало, ананасов мало, дынь мало, консервов рыбных мало, консервов овощных мало, повидла мало, варенья мало. А масла за два месяца даже не пробовала…
– Что вы? Действительно, ужас! Без масла?
– Ага. Такой кризис, такой кризис на масло, что едва-едва хватило для загара…
– Для загара?
– Ну… Ой, уже и выболтала секрет… Родненький… Ради Бога, не говорите никому про секрет… Я столько перестрадала. Подумать только… Комната двести рублей, а тут еще с питанием… Сала мало, курей мало, индюков мало, поросят мало, ягнят мало… Родненький! Пожалуйста ж, никому про секрет…
– О! Будьте уверены! Молчу! Молчу, как телеграмма «с оплаченным ответом»! Да разве ж я не пониманию людских страданий? Кашалотов мало, бронтозавров мало, удавов мало…
– Мало…
– Пороть вас мало…
– Родненький! Шутит… Ха-ха-ха…
– Нет, не шучу, черт побери! Колибри мало, пеликанов мало, жирафов мало, кенгуру мало… Родненькая… чтоб тебя разорвало!
Граждане! Не верьте жизнерадостным и беззаботным людям с лицами и шеями цвета давно не чищенного желтого башмака.
Люди те – несчастные.
Ложки
Сейчас у нас сильный напор на общественное питание пошел.
По плану напирают.
И декреты, и газеты пишут, отдельные деятели по поводу высказываются, и профактивисты по сути выражаются.
Поэты стихи про общественное питание слагают, писатели про героев огуречного фронта романы строгают.
Кроликов уже не только в школах, а даже и в детских садиках начали разводить.
У нас уже есть и дошкольные кролики, и кролики средней школы, и кролики высшей школы.
Недалеко то время, когда за кроликов возьмутся в Академии наук, у нас будут, очевидно, и академические кролики.
А что вы думаете? Раз надо – надо.
Однако не одни кролики и поэты решают судьбу общественного питания.
Есть еще много вещей, которые решают.
Примером, ложка.
Она тоже решает. Она тоже играет функцию. Ложка тоже не абы какое орудие производства на столовском фронте.

Перевод рассказа «Ложки» в «Клубе 12 стульев» «ЛГ» (16.4.2008).
Мы ж не какая-нибудь там буржуазная Австралия. Пускай уж там ложка служит предметом роскоши, а у нас это один из факторов улучшения благосостояния трудящихся.
Без ложки, как видим, довольно трудно стоять в первых рядах и вообще неудобно.
Итак, кролики кроликами, а ложку на задний план загонять не следует, наоборот, надо выдвигать ложку.
Вот почему приятно бывает зафиксировать, что кое-кто обратил на ложку внимание. И не какой-нибудь там одиночный ложечный энтузиаст, а целый коллектив.

Масса обратила.
В одной столовке ложки были. Много было, а стало еще больше. Собственно, не сразу стало больше, а постепенно. Сначала их стало значительно меньше, а потом уже стало больше. Это после того, когда ложки стали центром внимания, когда ложками заинтересовались широкие массы.
События разворачивались так.
Стала администрация столовки замечать – ложки исчезают.
Исчезают и все.
К примеру, начинается обед. Пустят в оборот, ну, скажем, восемьсот ложек, а после обеда соберут только пятьсот.
Триста, значит, тю-тю! Скрылись.
Выдадут пятьсот, соберут – четыреста. Снова недостача.
Что за черт? Где причина и социальный корень?
Зав на обеде выступил с речью.
– Это ж ненормально, – говорит. – Это ж не почта, – говорит, – и ложки не бандероли, чтоб им пропадать. Я, – говорит, – этот вопрос просто на ребро ставлю: где ложки? Это не литература. Это ж ложка! Реальное явление современности. Где ложки? Отвечайте в порядке самокритики.
Масса, конечно, молчит.
Тогда зав на крик перешел.
Кричит:
– Это ж позор и пятно! Это несознательность – ложки красть! Если такими темпами пойдем и дальше – придется забыть про технику и на кустарщину переходить – горстями борщ есть. Это сдача позиций. Мы идем к бесклассовому обществу, а не к безложечному. Такого декрета не было. Предлагаю откликнуться!
Тут народ, который обедал, и в самом деле на призыв зава откликнулся – всего тридцать четыре ложки пропало.
Тем не менее резолюцию одобрили:
«Ударить по отрыжкам и положить конец».
Прежде всего по отрыжкам плакатами ударили. По всем стенам развесили плакаты:
«Я – ложка твоя. Береги меня», «Ложка в массе – как врубовка в Донбассе», «Украденная ложка – к казенному дому дорожка» и т. д.
Однако не помогло.
Какой-то ложечный враг в первом плакате буквы ег зачеркнул и вместо береги вышло бери меня. За два дня снова сто пятнадцать ложек исчезло.
У зава уже нервная горячка началась: сам себя на черную доску занес и заявление подал: «В связи со стремлением широких масс утопить меня в ложке, прошу меня уволить, иначе придется констатировать мое тело на веревке».
Заву отказали.
Тогда он адский способ придумал.
Всюду собственноручно объявления порасклеивал:
«Ложки будут отпускаться только под залог в 1 рубль».
И что б вы думали? Как по маслу пошло!
В первый день выдали семьсот ложек, после обеда собрали восемьсот.
Зав от радости в этот день даже дома не обедал. Говорит, пообедаю в столовке, риск – благородное дело!
На другой день дело еще лучше.
Выдали семьсот пятьдесят, собрали девятьсот пятьдесят. Двести штук наросло!
Зав козырем ходит! На пиджак вместо хризантемы ложку пришил.
А третий день уже не день, а феерия.
Ливень! Да, да. Ложечный ливень. Ничего не видно – одни ложки. На столах, под столами, полные буфеты, кухня… Ложки, ложки, ложки…
С завом обморок.
С кассиршей истерика.
А публика у кассы ложками воздух сотрясает.
– Го-го-го! Га-га-га!
– Возвращай наши рубли!
– Возвращай наши залоги!
– Жулики! Честный народ обманывают!
Люди сбегались. Милиция. Пожарники помпы приготовили.
Зава насилу водою отлили. Очнулся – заплакал.
– Граждане! Виноват! Каюсь! Порицание мне общественное выносите. Заадминистрировался я на свою голову. Бейте меня…
– Да нечем тебя бить.
– Перегнул я палицу – ею и бейте!
Тут вбегает какой-то товарищ. Кричит:
– Стойте! Я вам всю ситуацию выложу. Я завмаг. Тут рядом. У меня в магазине именно такие ложки по шестьдесят пять копеек продаются. Без талонов и без нормы. Я за три дня пять тысяч штук продал.
Тут зав не своим матом как закричит:
– Спасайте! Это ж я на каждой ложке по тридцать пять копеек переплатил. Спасайте!
Тут все стало ясно.
Дебаты начались: кто ж виноват?
Кое-кто говорит – зав, кое-кто говорит – масса. Кое-кто твердит – оба хороши. Два сапога пара.
Кто же в самом деле виноват, можно узнать. Когда будете обедать в стационарной столовой, спросите. Там знают.
Собака – друг человека
Еще одно слово и изничтожу тебя, как класс, – победно закончила жена, разбивая о мою голову небольшой бюст Н. В. Гоголя.
– Правильно! Распустили его! – добавил сын Павло, моя старшая смена (шесть лет, внук крестьянина, умершего от водки в 1909 году, в эпоху свирепого разгула реакции).
Когда все это свершилось, я тихо проплакал:
– Везет же кому-то! Вон супруга поэта Засмоктанного никогда не дерется бюстами гениального творца «Мертвых душ».
– Засмоктаниха, мертвая твоя душа, имеет возможность лупить своего сеттерными щенками, ирод! А кто об этом хлопочет-беспокоится? А? Муж. Так то ж мужья! А ты разве беспокоишься, чтоб я жила по моде? Беспокоишься?
– Да я ж…
– Молчи! У всех собаки. У Засмоктанных сеттер, у Коваленко – немецкая овчарка, у Безмыльного – доберман, у Салюченко – дог. Только я несчастная (жена заплакала) не могу показаться на люди. И все из-за тебя…
– Мама! А у Салюченков сегодня родилось десять щенят, – заметил Павло. – Уже какой-то дядька приходил. В очках. Ихняя Мурка говорила, что тот дядька – собачья акушерка.
– У людей и мода, у людей и семейное счастье.
Жена наградила меня таким взглядом, что, будь в моих силах – даю слово чести – я б родил, не задумываясь, двенадцать щенков какой угодно породы.
Но из всех собачьих достоинств у меня было лишь одно – способность выть, и я завыл:
– Чего вам надо? Собаку? Куплю! Украду! Какой породы? Стрептококк-пинчера? Сеттералапсердака? Домашнее такси? Болонку? Шпица? Фокс-премьера? Говорите! Заказывайте! Сто догов вам в квартиру!
Вечером по случаю выбора породы состоялся семейный совет.
Но тут, уважаемые читатели, я должен познакомить вас со своей родней!
Прежде всего, моя жена, подруга, так сказать, жизни.
Сногсшибательно симпатичная особа, такая же симпатичная, как и ее мать Гертруда Гуговна Шпок, остзейская немка. Разница между ними лишь в том, что Гертруда Гуговна уже умерла, жена же моя себя чувствует превосходно.
Прекрасно себя чувствует и женин дядя, гомеопат Отто Гугович, и две женины сестры: тетя Лизэт и тетя Катэт.
Обе тети тоже чрезмерно симпатичные и не без талантов.
У Лизэт сопрано и катар всех кишок. У Катэт меццо и катар лишь одной слепой кишки.
Дядя Отто Гугович голоса не имеет, недавно лишили. Зато дядя имеет искусственные зубы, которые часто выпадают у него во время обеда.
Наконец у меня два сына.
Старший – Павло – необыкновенно наблюдательное и находчивое дитя.
Он уже усвоил, например, что, если даже днем зажечь все электрические лампочки, то красная ниточка в счетчике начинает бегать куда резвее, нежели тогда, когда лампочки не горят.
Первый месяц Павловых электронаблюдений обошелся в 43 рубля и дал возможность этому талантливому созданию познакомиться с другой, не менее интересной наукой, экономикой.
Теперь рядом со счетчиком и оплаченным счетом висит неплохое пособие по экономике – фамильная нагайка-восьмерик.
Что касается младшего сына, Виктора, то, не обращая внимания на его минимальный житейский стаж – полтора года, – можно предвидеть, что из него выйдет незаурядный гастроном.
Прекрасная действительность категорически подтверждает мои родительские предположения.
Разговорный лексикон, безусловно, одаренного отпрыска довольно твердо уложился в два слова «ам-ам». Причем он этих слов на ветер не бросает. Он ест все.
Сегодня съел коробку кнопок.
Живем мы дружно. Я мужественно добываю деньги, все остальные дружно превращают их в завтраки, обеды, ужины.
Итак, совещание по случаю приобщения моей семьи к моде проходило в бурной обстановке. Наша дружная семья во взглядах на породу своего будущего друга дружно разошлась.
Дядя Отто Гугович категорически требовал приобрести болонку как более гомеопатическую собачью породу.
Жена требовала серого английского дога.
Лизэт – фокса.
Катэт – шпица.
Я – сеттера-гордона.
Павло от выбора породы воздержался и лишь спросил, у каких еще собак бывают искусственные зубы.
В конце концов решили разыграть лотерею.
Номерки тянул Виктор и амкнул сеттера-гордона. Мог сын пойти против отца?
Теперь у нас есть обворожительная сука. Зовут ее Гарна.
Ах, товарищи! Ах, люди!
Если б вы знали, какая прекрасная модная жизнь настает, когда в квартире появляется наш друг собака.
Первый день пребывания у нас Гарной – день повального восторга и радости.
Больше всех восторгался сосед молодой врач Мусий Иванович.
Он клялся памятью великого хирурга Пирогова, что такой рваной раны, какую сделала Гарна на правой ноге тети Лизэт, не видел ни один доктор на земле.
– Не стоните, – успокаивал он тетю. – Это же красота! Класс! Не! Вы посмотрите! Все как на ладони! Вот кожные покровы. Вот фасция. Вот мускулы – musculus gastrocnemius. Вот артерия. Видите – кровь льется. Если струится – значит, артерия, а если б текла медленно, то б была вена.
– Спасайте! – вопила тетя Лизэт. – Перевязывайте! Умираю!
– От такой раны быстро не умирают. От такой раны вы можете умереть не ранее субботы, когда у вас начнется гангрена, – авторитетно успокаивал Мусий Иванович, кончая перевязку. – Прекрасная рана, – продолжал он, неумело пряча трешку в боковой карман. – За пять лет учебы в мединституте не видал такой раны… Иди-ка сюда, собачка, я тебя поглажу… Где она?
– Она вот тут, – послышался из коридора голос Павла. – Доедает вашу вторую калошу.
– Ам-ам, – пояснил Виктор.
– Черт знает что, – смутился врач. – Новые калоши…
– Она ест не только новые, – добавил наблюдательный Павло. – Перед этим она съела боты тети Катэт. А боты очень старые, рваные.
– Паршивка! – влетела из коридора Катэт. – Не собака, а троглодит какой-то. Я же говорила, лучше б шпица. Благородная порода.
– Гарну заперли в ванной.
Вечером к нам зашел знакомый Федор Михайлович. Охотник, собаковод.
Пили чай.
– Прогуливался. Погодка чудесная. Можете представить, какую я сейчас отличную колбасу купил, – говорил Федор Михайлович. – Целое кило. Советую и вам.
– А мы собаку купили, – сказал Павло, схлебывая с блюдечка чай.
– Собаку? – подскочил Федор Михайлович. – Чего же вы молчите?
– Тетя уже кричала, – проинформировал Павло, не отрываясь от блюдечка.
– Показывайте! Я же на собаках собаку съел, – захохотал Федор Михайлович.
Привели Гарну.
– Ого! Неплохой пес. Так-так, – рассматривал ее со всех сторон Федор Михайлович. – Перо[23] как следует, колодочка[24] что надо. Добрячий пес.
– Премированный, – с гордостью сказал я. – Ее мама на всесоюзной сельскохозяйственной выставке…
– На собачьей, хотели вы сказать?
– Именно на сельскохозяйственной съела премированного голландского петуха вместе с перьями и медалью, висевшей на шее петуха.
Но этот дифирамб перебил радостно-звонкий голос Павла, который вбежал в комнату и затанцевал, припевая:
– Наша Гарношта – собашта Съела кило колбасы.
– Видите? Видите? – поймал я за руку Федора Михайловича, высунувшегося в коридор. – Вся в мамашу. Апорт, Гарна!
– Апорт – значит подай, – зарычал Федор Михайлович. – Как же она подаст, если уже проглотила, чтоб она сдохла. Кило ж колбасы!
– А глаза? Глаза! – не унимался я. – Обратите внимание. Ум. Осмысленность. О, вы еще не знаете Гарну!. Хотите, скажет цену вашей колбасы? Гарна! Же ву резон колбаса? Труа рублей а кильо? Гарна! Вуй!
– Гав, – подтвердила Гарна, облизываясь.
– Слышали? Три рубля.
– Два девяносто, – вздохнул Федор Михайлович.
– По талону брали?
– Так.
– Гарна угадывает цены товаров свободной продажи. Класс, братец ты мой! Породочка! С аттестатом собачка! Сейчас покажу. Куда же вы убегаете?
Ужинали мы без Федора Михайловича.
За ужином по предложению дяди решили матрац для Гарной снять с моей кровати.
– Непремированные литераторы могут переспать и без матраца, – сказал дядя.
Я тоже голосовал за.
Спал я на голой сетке. Снилось, что я не я, а гончая, и меня премировали на собачьем конкурсе.
Проснулся я от боли. Укусил сам себя за ногу.
А утром дядя не мог найти свои вставные зубы, что положил на ночь на столик у своей кровати.
Иду сегодня со службы на обед. Под дверью своей квартиры вижу всю детвору нашего двора. Дико хохочет.
– Чего вы тут делаете?
– Концерт, дядя.
– Какой концерт?
– В этой квартире какой-то малахольный купил собаку, и она поет. Как только тетя заиграет и запоет, собака тоже поет, а мы спорим, у кого лучше выходит.
Я насторожился. Катэт пела романс Шуберта. Гарна выла. Я подхватил за компанию, и лишь мой голос обеспечил перевес вокальным дарованиям Гарны.







