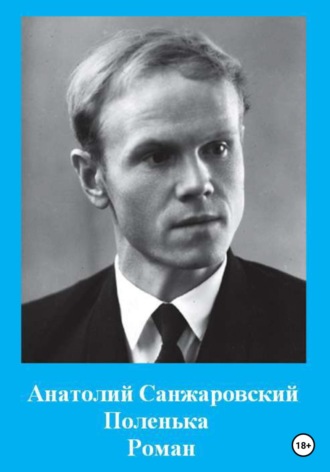
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
– Без обеда?
– Зачем же?.. Краюшка у меня была-а… Солькой подбелил… Всё бегом, бегом… Употел, присел у родничка передохнуть. Умял хлебушко, из кринички запил… Ну, приходим вечером со стадом… Нету нашего пустопляса. Мы туда – Антон! Мы сюда – Антон! Нетушки. Думали, у тёть Анисы. Нету. Тёть Аниса говорит, всей день просидел он как именинник в канаве у дороги. Вы-то, ма, знаете, ух лю-юбит он со своим обручем обгонять машины. Ждет-пождёт в засаде. Только уровнялась машина, нырь из бурьяна и лёту. Гонит перед собой обруч на всех парах, горит выпередить машину… Останется когда один, нету родней печали, за обруч да на дорогу… Ещё тёть Аниса сказала… Уже перед нашим приходом мыла она в столовке котлы, так он заскакивал чего перехватить. Дала. Он и исчезни не знай куда. Прошарили все канавы, все траншейки, все окопы, все сараи… Всю ночь лазили. Ни с чем и кукуем вот…
– А Божечко мой!.. А взрослым хоть кому стукнули? Тому ж бригадиру?
– Не. Думали, найдём. Чего по пустяку дёргать всеха?
– По пустяку… Ум расступается…
Плохо соображая, Поля вышатнулась на крыльцо.
Бригадирово окно скупо золотил сонный огонёшек – угасал в тугом тумане утра.
Она побрела на свет.
И уже на ступеньках её перехватил Анисин голос:
– Полька, а Полька! Ты этого демонёнка знаешь?
Поля обернулась. Аниса встречно подтолкнула в спину Антона – вела за руку, и тот угрюмо тащился сзади неё боком.
– Та где ты его откопала? – Поля обомлело сложила руки на груди.
– Где! Он меня, анчутка беспятый, чуть было на тот свет не отправил чертям на пензии воду возить… Подхватилась я спозаранья да на кухню в детсад. Одна у поварихиной у подсобницы дорога. 3аливаю котёл, другой. Все котлы у меня с вечера выскоблены, высушены, спят-отдыхают ночь кверх копчёными жопками. А это один чегось стоит на тёплой печке на своих ногах, невплоть прикрыт. Я крышку в сторону, хвать ведро да туда было… А там чтой-то чёрное и заворушись. Матеньки! Подкосились подо мной ноженьки, я и села, где стояла. Ведро всё-о-о на меня опросталось! – Аниса показала на кофту, на кубовую юбку, мокрые спереди до последней ниточки. – А он, колоброд, встал во всей росток да ещё потягивается. Тянет один кулачок за спину, другой за голову. Вроде того как и надсмехается, и грозой грозит.
– С него станется. Шо ж ты творишь? – накатилась Поля на сына. – Иле твоим бесстыжим глазам не первый базарь? Ты чего в котле забыл?
– Ничего я там не забыл. А Глеба наказывал далеко не заходить, я и был совсема возле дома. Я думал…
– А-а! То-то по всей улице вонишка была. Он думал! Горький арестантик бобруйской крепости! В котле ты, ворожёнок, чего забыл? – подкрикнула Аниса.
– А это, ма, я так… – лисил Антошка. – Поел я её кашу, залез в котёлик в пустой. Тепло, темновато… Угрелся. Сижу слушаю, как скребёт она ножом котлы рядом. Уже ночка в окна залезла. Накрылся я крышкой, ночка сразу ко мне легла. Свернулся в калачик, думаю, а пускай тёть Ан найдёт меня. Я там внечайке и уснул совсема…
Последнюю фразу мальчик произнёс с такой горькой досадой, что в самом тоне прозвучало признание того, что сделал он всё это крайне нелепо, что это нелепство он понимал, раскаивался. Он переживал, что из-за него страдали другие. Уже одно это прощало невольную его выходку.
И когда отчитанный от лихорадки, отруганный, Антон, Поля и Аниса появились на пороге, Митя вихрем слетел со скрыни. Запрыгал:
– Я так и знал! Я так и знал! Я говорил себе: раз обруч дома, так никуда не денется и сам этот раздолбайка! Из-под земли придёт за обручем! При-дёт! Вот и пришёл!.. Всё, ма! Получайте своё хозяйство в полном составе!
По улыбке матери ликующий Митя видел, что она довольна и горой отстиранного белья, и свежим, вымытым полом, и нашедшимся пропащей душой Антоном, так что вовсе и не зряшный был он, Митрофан, хозяйко. Ему хотелось похвалы. Мама заметила это.
– Спасибо сыночку Митеньке, – приобняла его за плечики. – Хозяиновал гарно. Повезде держал порядок, чистоту. Во всякую норку залезет, вытрет… Гарный хозяйко… наш Мужик Мужикович… А ты, Антоха, умывайся да в сад мне с Глебом марш!
– За мной, каурый! – Глеб поймал братца за руку. В злости Глеб называл его за огненно-рыжие волосы каурым. – Не упирайся, иди. Кто за тебя будет ноги переставлять? Давай шевели помидорками!
Антону зуделось убежать, дёрнул руку. Но Глеб удержал, поднёс кулак ему к носу:
– А пять весёлых братиков не встречал, малёха? – И легонько, без зла подтолкнул коленкой в то место, которое не плачет. – Бабушка велела кисельку поддать.
За завтраком Глебка всегда садился в саду рядом с Антоном. На то были две причины, весомые, как железнодорожные шпалы. Первая: на случай защиты младшего брата от всяческих козней детсадовской скорлупы. Глеб самый сильный, с ним справится лишь воспитательница, отчего так рыцарски вёл себя Антон с ровесницами: не боясь мести за свою вероломную измену сильному полу, выказал однажды открытое поползновение обратиться в девочку. Носить одну косынку явно недостаточно. А что нужно ещё, чтоб совсем стать девочкой, он не знал. Полез за советом к Глебу. Глеб сложил вид, что страшно напряжённо думает, но ни шиша так и не надумал, со вздохом капитулировал:
– Глухо, братко, дело…
Из ответа последовало, что сила в руках не всегда пропорциональна силе в мыслях, и сила ума сейчас меньше всего нужна была самому Глебу. Зато сила в руках уже прирабатывала на него. Ему сказали, чем драться, лучше таскай воду в сад из кринички за Шкириным огородом. Глебка исправно носил, за что теперь отхватывал в обед по две порции первого. Две порции все-таки покуда больше, интересней против одной, и в Глебе прокинулась дремавшая предпринимательская жилка.
И вот вторая уже причина, почему он по утрам подсаживался за стол к брату.
К чаю обычно выдавалось по два овсяных печенья, без которых он легко обходился, теша себя мыслью о царском обеде с двумя первыми. Уже от одной только этой думушки он сытел. Взяв стакан с чаем, неторопливо подносил ко рту и обе печенюшки. Дух печенья сладко пьянил. Забивала слюна, сами собой размыкались зубы, неодолимо тянулись к дерзкому аромату. Мальчик с надсадой сглатывал слюну, стискивал прочней зубы и, внимательно-небрежно кинув глаз поверх ребячьих голов, убедившись, что воспиталка не следит за ним иль вышла куда, незаметно опускал сладинки в пазуху.
А кругом всё молотило со зверским аппетитом. И ничего так не хотелось, как печенья. Он машинально подносил пустой кулачок ко рту, «откусывал», шумно, как все, тянул чай из стакана. Других просто обмануть, что пьёшь с печеньем, да навар из обмана не крут. Разве обведёшь себя?
Он лениво-деликатно давнул локтем брата в бок, просительно наклонился.
– Поделись, – показал на его печенье, – с братиком по-братски. А то чай мёрзнет мой.
Антон гонористо выпрямился, задумался, не переставая жевать.
– Ну!?
Горячее понуканье взорвало младшего.
– Отзынь! Аржаную[59] пуговичку дам.
На замену Глеб не согласился.
– Аря-ря-ря! Жадоба! Пуговичка самому тебе нужна. На чём штаны будут твои висеть? Ты мне печеньица отдружи на один зубок.
– Что ты как побирошка? Всякий день дай-подай!.. Давалка сломалась. Вот я склал про тебя. – И Антоша вшёпот пропел, назидательно тыкая брата в коленку:
– Побирошка, побирошка,
Дай печеньица немножко…
– Ну, хоть вот это. – Глеб ласково погладил сколок печенья, что выглядывал из братова кулачка. – Там осталось всего на три духа. Крошка. Ну!?
Антон оценивающе уставился на Глеба. Дать или не дать? Глеб свойски мигнул. Мол, чего ещё думаешь, и смешливо выпустил ему кончик языка.
Не остался внакладе Антон. Из-под мышки насупленно вывернул уже фигу, обстоятельно впихнул злосчастный сколок себе за щеку.
Глеб проводил взглядом тот кусок в рот, посмотрел, как братец жевал долго, сосредоточенно. Всё не верилось, что не даст. Но печенье уже в желудке, оттуда, как та коза, не вернёшь его отрыжкой.
– Ну, ладно, каурый, – зло облизал Глеб сухие губы. – Оставил шиш да кое-что ещё. Ладно…
Глеб ядовито покивал братцу одним прямым указательным пальцем. Да пропадай ты, лавушка, со своим товарушком!
С ведёрком он побежал к кринице. В посадке пристыл у высокой, у толсто раскормленной ёлки. Заозирался. Ага, ни один глаз подглядливый не гонится. Можно! В спешке достал из пазухи оба свои печеньица, завернул в тряпочку, с которой играли девчонки перед завтраком, сторожко вложил тряпицу в тёмное сухое дупло, застланное им самим газетным листом.
Почти весь день мальчик не выпускал из рук ведёрко, всё носил на кухню воду. За ужином перед всеми Аниса – она одна в четырёх картинках: и помощница у поварихи, и няня, и уборщица, и почтальонша, – Аниса и тётя Мотя, воспитальница, сказали ему спасибо, дали за труды лишние три блинца в сметане.
Вечером никто не приходил в сад за детьми. В синих сумерках воспитательница, иногда бренча грусть на древней гитаре, сама отводила за район ребят на окопы к родителям.
От света до света люди ломали как быки. Кто формовал, стриг под овал лохматые чайные кусты. Кто перекапывал междурядья на чайных плантациях. После основной работы, к вечеру, усталые взрослые убредали за посёлок рыть окопы. Фронт ворочался, рычал невдали, взрывы вздыхали по ту сторону гор, вздыхали так, что дрожь пробирала дома, деревья, и по ночам ошалелый без сна бригадир кидался от окна к окну, лупил в стёкла палкой.
–  [60] Тушы свэт! Тушы свэт!
[60] Тушы свэт! Тушы свэт!
Ребятьё знало на окопах, где чья мать копала. Кучками, в одинарку молча растекались лаврики по своим. В мирное время любили они играть в войну. Теперь же и разу не подумалось сыграть в войну в настоящих окопах. Не игралось.
Младшие, крошутки, найдя своих, столбиками мёртво стояли в сторонке. Сражённо пялились, как гневно-яростно рвали с огня, быстро копали матери, смотрели и ждали, когда подадут руку идти домой.
Детсадовский народишко постарше уже не был просто сочувствующий зритель. Тот же Глеб. Влез в окоп к маме и, путаясь у её ног, занялся подбирать со дна комки глины, упали с бережка, выносил или выбрасывал эти глудки за насыпь.
Было совсем черно, хоть в глаз коли, когда по бригадирову голосу женщины безмолвно покинули окопы и посунулись к посёлку. Все в смерть уработались, выпали из силы, еле ноженьки молчком несли и было едва заметно, как в кромешной тьме покачивались высокие и низкие – от горшка два вершка, от чашки на четверть – сгустки ночи, фигуры людей.
Поля вела за руку меньшенького. Глеб плёлся сзади. Раза два окликала, он отвечал:
– Тут. Тут я. Куда я денусь?
Мама забылась. Кинулась парня уже у двери.
– Гм… Где ж он? Вора не було и батька вкралы, – сказала самой себе. Негромко спросила темноту: – Гле-ебушка, ты где?
– Где же!.. Вот он я! – празднично звенел приближающийся голос из черноты. Мальчик бежал, тяжело нёс перед собой шатром отдутый подолок рубахи. – Ма!.. – вывалил на стол из пазухи холмок красных, синих, оранжевых круглых узелков, в которых было по два печенья. – Ма! Это Вам! Сегодня, говорила тёть Мотя в саду, Ваш День. Восьмой Март. Праздник!
– Дела! – Мама даже растерялась от радостного разноцветья тряпочек. – Дождалась и Полька от свого сыночка первого подарка. От спасибо, от спасибочко сыночку!
Мама конфузливо-светло рассматривала тряпочки, развязывала, брала печенья и боязливо клала назад, не веря, что всё то ей одной. Она улыбалась, сквозь слёзы спрашивала:
– Довго сбирал?
– Да ну с нового года.
Антон встал на цыпочки, раздёрнул печенья на две неравные кучки.
– Это, – угрёб к себе бо́льшую горку, – мне. А то всем вам.
Глеб взял брата ниже локтей, повытряс из рук всё до крошки. Поманил в сумрак угла, куда каганец не мог добросить болезненно-жёлтого трескучего света, к тому же шаткого, сто́ило кому рядом пройти.
– Я хочу по-братски поделиться с тобой, братик, – заговорил так, чтоб слышал лишь Антоня. – Из этих печений тебе, братик, причитается только это! – Глебка приставил ему к носу дулю. – Помнишь, как ты мне совал из-под мышки? Так что хороша Наташа, да не ваша.
Антон надулся, молчаком плюхнулся на кровать. Сычом косится на печенья.
– Хлопцы, – сказала мама, – и шо ото вы на них смотрите, как на икону? Сидайте за стол, ешьте все разом да то и будэ нам праздник из праздников. Я и не знаю, когда покупала вам печенья. А туточки полный стол. Да ешьте, ешьте вы. А то стол сломается!
– У нас и так один стол, – пробурчал Антон, не дойдя до шутки в маминых словах.
– Так вот и береги его, – весело подбила мама. – Садись да ешь. Чего упираться? Чего?..
Глеб с царственной милостью подпихнул к брату цветастый бугорок тряпочек с печеньями.
– Работай. Ломи за троих.
Антон понёс руку к радужной горке.
– Ага…
– Коровья твоя нога.
Тут втащился Митрофан с Машей на руках, жутко удивился:
– Что это в тайностях от нас все так разбежались в еде, что аж потеют!? А кой да кто, знаю, в работе мёрзнет… Ну-ка, Маша, гордость наша, спроси у мамушки, спроси у братиков, чего это они так горячо трескают, так набивают в оба конца, что аж за ушками трещит, а нам и не подадут? Ну-ка, спрашивай, золотушечка…
Все взоры собрала Маша. Стало так тихо, будто ангел пролетел. Девочка сосредоточенно молчала, словно прислушивалась к тому, как прозвучали слова брата. Казалось, она силилась догнать ухом тот улетевший куда-то голос и послушать его ещё, послушать сказанное. Но разве это возможно? Девочка бросила вслушиваться и занялась внимательными глазами обходить всех в комнатке, смотрела и улыбалась, и в том непередаваемом взгляде, в той непередаваемой улыбке были восторг и сожаление, досада и радость, обида и торжество. Боже правый, легче сказать, чего в нём не было, и каждый увидел в этом взгляде укор себе, укор тому, что делал.
Как это никому не пала в голову прежде догадка, что эти печенья, пожалуй, всё-таки нужней самой маленькой в семье, самой слабенькой? Из больницы ж только что! Каждый, наверное, подумал про то же, каждый по-своему среагировал. Мама с какой-то виноватостью подала дочке капелюшечку надкушенное печеньице. Девочка взяла, стала серьёзно рассматривать. Антон поднёс весь ворох, высыпал сестрёнке на лавку, где присел с нею Митрофан.
А назавтра Глебка шепнул Антону за завтраком:
– Я оставлю Машуньке одно.
– Я тоже.
И братья приносили каждый вечер по два печенья. Весь день мучительно таскали в кармане, прятали от себя, только бы не маячили перед глазами, только бы не разъяриться, только бы со зла не воткнуть в рот – бездна бездну призывала, как говорят о соблазнах. Крепок был бес искушения, но мальчики находили в себе силу смять его.
13
Или доля моя
Сиротой родилась?
Иль со счастьем слепым
Без ума разошлась?
Никишин не вышел ещё хлеб, ещё полный под завязку мешок пшеницы, выменянный мужем перед уходом на фронт, толсто дулся в углу, а Поля, не привыкшая дожимать всё до крайности, не ждала, как последние зёрнышки снесёт за речку Скурдумку мельничихе Теброне, и потому, едва выскакивал пустой час, совала что уже из своего из личного барахлишка в мешок и бежала менять в горы. Одна ходить боялась. Чужие горы, чужие люди. А ну какой блудила навялится?
На всякий случай она брала в спасители Глеба. В то воскресенье будила его затемно, ещё лукавые не схватывались. Мальчик долго не просыпался. То ли слишком крепко спал, то ли будила она очень уж боязливо, и шла та боязливость от сердца. Жалко ей было поднимать. Она будила и боялась разбудить. «Ну, хай ще трошки…» Проходило с минуту, она несла руку к его плечику и, не решившись дотронуться, унимала её к себе. Она видела, как сладко он спал, отходила.
Окно уже брезжило. Мяклый свет дня подстёгивал, возвращал её к койке. Ждать больше нельзя. Она ставила в постели засоньку на ноги. Не поддержи – упадёт, так и не проснувшись. Она знала эту его сонливость, не бросала одного стоять и чуть не со слезами мягко покачивала из стороны в сторону, дула-дышала ему в лицо.
Помалу мальчик просыпался, не понимая, чего от него хотят. При этом он не капризничал, а шептал лишь одно:
– Не можу… Не можу…
Поля так и не добилась, чего же он не может. После выяснилось, никак он не мог проснуться, хотя помнил, что встать надо нарани. Вчера же весь вечер мама про это только и жужжала.
Наконец мальчик проснулся, живо оделся. Вот он и готов весь бежать день за нею верной собачонкой.
Только наши менялы на порог – прокинулся Антон. Что было силы в ручонках молча впился коготочками в материнскую юбку и, дрожа от страха, что вот сейчас уйдут от него, цепко держался. Мама пробовала высвободиться, разжимала пальчики, уговаривала:
– Пусти… Мы тоби лобии,[61] чурека принесемо. С сыром… Мы нанедовго…
– Да-а, нанедолго… Вы всегда так говорите. А приходите совсема-совсема тёмнышко!
Митрофан дураковато хлопнул себя по лбу.
– Фу, Антоняка! Совсем ну забыл… Тебе ж мышка велела передать из своего магазинчика новую косынку!
– Где косыночка? Где косыночка?
Митрофан важно повязал ему на голову отцов носовой платок. Мальчик млеет от восторга. Рассматривает себя в ведре воды на полу, как в зеркале. Забыто всё на свете.
Мама с Глебом спокойно, незаметно вышли.
Густая синь неба чиста, без облаков. День набежит жаркий. Но сейчас, на первом свету, чувствительна прохлада знобкая.
Проворные, быстрые ноги Поля ставила широко, отшагивала совсем по-мужицки. Глебка, мелкорослый, худее спички (за худобу мальчишки прозвали его Чаплей), прыткий на ногу, не поспевал шагом, вприбежку следом топтал тропку стригунком.
– Ма-а! Подождите!
– Шо там ще?
– Гляньте… Растёр ногу этими проклятыми чунями. А ладно, я пойду босячком?
– Да иди.
С чунями под мышками Глебка завил клубок, резво побежал по толстой сонно-ленивой прохладе пыли. Отпечатки залегали глубокие, глазастые. Мама кисло усмехнулась, подумала вслух:
– Баре мы больши-и-ие: сапоги чищены, а след босый…
Из-за далёкой каменной череды радужно-багрово било, подсвечивало, и скоро доброе солнце пролыбнулось с высь-горы нашим путникам.
Глебка упоённо пялится на солнце скользом. Жалуется:
– Ма! А почему Солнушко ругается, не даёт глазикам на него смотреть долго?
– Знать, ему твоя компания не наравится, – светло утягивается мама от прямого ответа. – А ну с кажным поиграй в переглядушки, когда оно в работу поспеет?
– А что, Солнушко работает? Как Вы? Как дядя бригадир?
– Оё, брякалка, уравнял!.. А ну кажному в мире посвети? А ну кажного согрей?.. Кажного человека, кажну пташку, кажну травинку, кажный листочок… Большь сонца кто и робэ?
– И у него хлебных карточек забольше всеха?
– А карточки у него ни одной нема.
– Разве это честно? А давай отдадим хоть одну нашую!
– Отдадим. Передавать будешь сам?
– Ага. Вечером Солнушко упадёт за горку спать. Я разбудю и отдам…
Словно в благодарность солнце подпекало всё азартней. В селении Мелекедури маме с Глебкой стало ещё теплей от живых прямых дымков, что подымались на погоду сизыми столбиками над саклями.
Улица начиналась богатым особняком. За могучим плетнём здоровенный, с телка, пёс на цепи. Зачуял чужих, с сытым рыком загремел цепью, но не встал: старый пёс брешет лежа. На резной балкон во весь второй этаж выстукивает хромой старик с воловьей шеей.
–  ![62] Мануфактура не нада!? – деревянно кукарекнул Глебша.
![62] Мануфактура не нада!? – деревянно кукарекнул Глебша.
– Нэт,  ![63] – Старик с издёвкой, хищневато поморщился и сердито постучал назад в комнату за летящее на ветру крыло голубой шторы.
![63] – Старик с издёвкой, хищневато поморщился и сердито постучал назад в комнату за летящее на ветру крыло голубой шторы.
Менялы приупали, конфузливо поскреблись к соседским воротам.
Полный-то день с верхом вприсыпку толкались они со двора во двор, и никому, ни одной душе не в надобности их тряпчонки. Сомлели в поту, в голоде, каждый про себя молил: ну хоть кто да ни будь, ну хоть сколь да ни будь дай, абы не плестись домой без хлеба. С пустом.
Чёрной погибельной скалой наваливалась ночь. Мать с сыном потеряли всякую надежду на удачу. Брели уже назад, не стучались больше ни в один двор. Ну что попусту звонить в лапоть?
Глеб побито тащился сзади, думал про то, что солнцу легче, чем его маме. Солнышко пробежалось по небушку, свалилось за горку и спи. Никакейских забот! Ему никого кормить не надо. А у мамы четыре голодовщика. Во весь день не присела, не было во рту ни порошинки. Ничего не выменяли и до района ещё по ночи идти да идти…
Ему хотелось сказать маме что-нибудь хорошее и обязательно про то, что у неё хлопот больше против солнца, но он не знал, как сложить свои раздёрганные мысли в слова, насуровленно молчал.
– Пропало воскресенье, пропало до основанья… – жаловалась Поля сыну. – Такое наше счастье. На веку, як на долгой ниве, всякое бувае… Всякое-то всякое, а почему скрозь нам подавали одни дули из Мартынова сада?
Глеб молчал.
– Сынок! Так ты знаешь, почему нам везде подавали одни отказы?
– Подскажете – узна́ю…
– Нас все боялись! Вот глянь на нас со стороны, в смерть выпужаешься. Нищеброды! Як на порог таких допускать? Ещё утащат чего… Ты весь босый…
– Ну и что? Тёть Мотя читала, король тоже был босый, как разуется.
– По книжкам не знаю, ни одну не раскрывала, а так таких босых короликов, як ты, в Мелекедурах бояться. Може, думають, краденое меняють… И никаких с нами делов не заваривають. Ты обуйся, солидниш так…
Глебша заныл:
– Да ноги болят в чунях.
– А у кого не болят? У самой аж горят. Все ноженьки износила. Мне тоже не сахарь. Бач, какие тяжелюги батьковы чёботы, а я, как солдат, иду. А ты королик-задрыпка.
Такой щелчок, как мылом по губам. Мальчик уточняет:
– Не король я… Просто хороший я…
– Хороший, хороший! Обуешься, ещё лучше станешь.
Глебка покорно влез в чуни и пожалел. Идти-то уже не к кому! До конца улицы два дома. В последний, где спесивый старый небритый гуриец в насмешку обозвал Глеба своим господином, они, конечно, снова не покатят. Может, эта соломенка? Так ещё утром мама нарочно обминула эту жалость!
Мама перехватила его удивленный взгляд. Кивнула:
– А давай-но, сынок, зайдём вот в этот двор. Нашим глазам не первый базарь. Перелупають.
– Что там делать? Смотрите, каковецкая хибарушка? Не вышей плетня! Там богатики не королевистей нас.
– Не подговаривай под руку. Можь, и не посадять на ракушки. Не обидят отказом. Давай на святого Лазаря зайдём… Нужда велит и сопливого любить… Утрёшь да поцелуешь. Утром вот обежали. А ну здря?
От раскрытой калитки игристо отбегали две тропки. Одна к дому, другая, побоевей, к косому сарайке в тусклой соломенной шляпе. Сквозь необмазанные, плетённые хворостом стены, сквозь закоптелую солому крыши сочился дым. То было что-то вроде кухни, топили по-чёрному. Называлось бухара.[64]
Наши перекати-поле посунулись к бухаре.
«Земля треснула – незваные гости наявились», – подумала Поля про свой приход и, приоткрыв дверь, спросила в дым:
–  ,[65] можно?
,[65] можно?
Изнутри толкнули, дверь охотно растаращилась до отказа. Из дыма выпнулось доброе женское лицо.
– Руски, заходи! Заходи, руски!
Втёрлись наши ходоки в тёмный уголок, осматриваются. Со света ничего не видно. Зато дым сразу настырно полез к гостюшкам. Через минуту какую дым поредел вроде, зыбко замаячили рёбра стен, покрытые на палец сажей. Посреди бухары на цепи висел вёдерный казан. Под ним тлели сырые ольховые коряги. Варилась мамалыга. Сладкий её дух так взбесил голод, что Глеба едва не сорвало. Ни граммочки же за день во рту не было.
– Мамычка! – горячечно зашептал он с близким ливнем слёз в голосе. – У меня головка кружится. Я хочу есть.
– Ну, попей воды. Я попросю.
– Не… Воды я не хочу…
– И-и, орала-мученик! Ещё харчами будешь перебирать в чужих людях? Тошно слухать. Тогда сиди та мовчи!
Как грибы вокруг дерева, сидели вокруг костерка на земляном полу человечков шесть мал мале. Погодки, видать. Босоногие чумазики что-то лопотали по-своему, с живым любопытством постреливали угольно-чёрными глазенятами в угол на незнакомиков. Вдруг мальчишки сели тесней. В их гомонливом колечке вокруг костерка зовуще сверкнул пустой простор. Показывая на освободившееся место, хозяйка с поклоном позвала нежданных гостей к огню, в свой круг.
– Руски, аба, иди огон! Руски, аба нэ стиснайса!
Это радушие полоснуло Полю по сердцу. Видишь, думала она, пересаживаясь с Глебкой поближе, у самих бедность верховодит, не за что рук зацепить, а душа человечья не потеряна. Это поважней всего другого.
Завязался односложный, отрывистый разговор. Вперемешку сыпались русские, грузинские слова. Женщины не знали языка друг друга. Но каждая скорей чутьём поняла и приняла тяжёлую судьбу другой. Доли их были схожи. У хозяйки муж тоже воюет. Дома оставил вот этот калган, шестерых сынов-погодков, притихших у костра.
–  ,[66] idbkj! Горки твои дэнь! – сокрушалась хозяйка, обводя печальным взглядом ребят, что уставились в чадящие коряги суровыми глазами. – У тебе idbkj дома эст?
,[66] idbkj! Горки твои дэнь! – сокрушалась хозяйка, обводя печальным взглядом ребят, что уставились в чадящие коряги суровыми глазами. – У тебе idbkj дома эст?
Поля вскидывает три пальца:
– Ещё три швилёнка. Некуда правду деть.
Хозяйка в отчаянии хватается за голову:
– Одна гогочка… Маня… Два ещё бичика…
– Бедни idbkj, бедни…
Ужинали все вместе в саду под яблоней за врытым в землю столом. Ели сосредоточенно, молча, и была кругом разлита такая тишина, что слышно было, как падали с деревьев то спелые орехи, то яблоки. Одно яблоко бухнуло прямо в стол, заставило своим неожиданным стуком всех вздрогнуть.
Потом свалилось ещё одно уже Глебке в оттопыренный кармашек пиджака. Мальчик растерялся, не знал, как поступить. Взять или отдать? Совсем некстати прилезла в голову коварная мыслишка про то, что мама не жалует воришек. Мальчик заалел. «Воруют – это когда потихошку просто берут чужое. А я брал? А оно не само упало? И чьё оно? Людяное?.. Не-ет, веточкино. А разве можно у веточки украсть?..»
Ему нравится так думать, но чистое сердчишко тревожно настукивает. Подавливает сомнение, что всё здесь хорошо.
«Моё – это когда только моё. Но разве дерево с яблоками моё?»
Яблоко уже согрелось, вспотело в его руке.
«Принесу своим… А если мама выбросит или заставит отнести назад, где взял? Было ж у Митьки… С пацанами насбирал где-то в саду орехов. Пацанву свои мамки ухваливали, а наша в кровь обдёргала Митюхе всейки уши, навелела оттащить орехи туда, где сбирал. Потащи-ил с песнями… А как я понесу один аж сюдашки?..»
Склонился мальчик к тому, как ни хорошо яблочко, да не его, в замешательстве положил на стол.
Грузинчата вскинули недоумённые чёрные мазки бровей. Поля всё боялась, что Глеб спрячет яблоко, отводила всё глаза в сторону и теперь долго посмотрела на него с благодарностью. Хозяйка ласково потрепала его по щеке. Сказала:
– Когда куши кончил, рви яблок, сколко нэсти можэшь.
Мальчик повеселел и тут же выкатился из-за стола. Уже наелся вдохват, насадился, как Антипов щенок!
Руки сами поднялись к нижним веткам. Со святым ликованием осторожно стали рвать яблоки в пазуху.
А между тем хозяйка завернула в газету тяжёлый твёрдый ком смачной мамалыги с лобией, кусок зандульского[70] чурека.
– Полиа, это, bzj дома кушай.
Поля было заупрямилась брать, но хозяйка не на шутку в обиду въехала. С какими глазами заявишься ночью без ничего к тем, кто дома?
– Там, bzj тожа хочэт кушай!
Свёрток Поля приняла и в ответ – не оставаться же с накладом! – выдернула из узла кашемировый, и разу не гревший её голову платок. Никиша ещё на севере к седьмому октябрю, к её рождению, брал. Хороший платок, дорогой, ни разу не надевала, самое лучшее, что было сейчас у неё из вещей, она и отдай за хлеб-соль, за привет. Хозяйке не манилось обжечь отказом, с дорогой душой взяла да в придачу к свёртку вплеснула Поле в мешок пуда полтора пшеницы, ведра три яблок – полный под завязь мешок!
Поля не знала, как и разойтись. За весь этот бугор еды одного платка по нонешней цене ой как мало, ни мой Бог. Под яблоней на лавке развязала она узел, суетливо завзмахивала всякой барахлиной, кидавшейся под руку.
– Выбирай! Что на тебя гляне, то безразговорочно и бери!
– Я чито – вор? – вскрикнула хозяйка. Она судорожно сгребла снова всё в узлину, впихнула в мешок и, сронив нескладные, разбитые руки Поле на плечи, смято посмотрела ей в глаза да и зареви в голос, так что с соседских плетней потянулись растерянные лица. Хозяйка что-то буркнула им, те усунулись назад, горестно закачали головами. – У мне сад, – загнула она один палец, ласково поясняя Поле свой отказ от её добра. – У мне огород, – загнула второй. – У мне коров…
– У тебя и шесть работников за столом из миски ложкой…
– Ничаво… Мала растёт, мала скоро помогай мне… Приди у мне гост после война ти с твой хозяин, с твой все швилико… У мне хозяин приди от Гитлер. Гуляит будэм у мне…
– Живы будем, на замиренье в обязательности придём, бицола. В обязательности! – пообещала Поля, макая концом косынки слёзы у себя.
Всем двором провожала бицола нежданных горьких гостей до поворота.
Тусклый лунный свет лился по пустынной уличке. Изредка накатывались встречно запоздалые арбы с кукурузой, с дровами, с чаем; ещё реже колёсный скрип покрывали устало-сердитые голоса аробщиков – в нетерпении покрикивали на засыпавших на ходу волов. Угарно подтораплавали:
–  [71]
[71]
Молодому месяцу дома не сиделось. Не заметили ходоки, как умытый уже молодик с острыми рожками, этот хохолок сенца посреди польца, упал за гору. Враз придавила такая потемень, что пропала из виду тропа, и Поля пошла наудачу, зыбко припоминая до точности всякую на той тропке щербинку, всякий камушек.
Время от времени она останавливалась, удерживала дыхание. Не поворачивая голову под смертельно-тяжкой ношей, вслушивалась в шлепоток частых детских шажков за собой, рассвобождённо вздыхала. За роздыхом вмельк давала заполошным шажкам ближе подбежать и, едва они подбирались вплоть, неслась дальше.
Во сто крат мальчику было сейчас круче против утра, но он мужался. День беспрестанных плутаний, натертые ноги, яблоки, вздувшие рубаху до самого подбородка… Он всё боялся, что рубаха вот-вот выпрыгнет из штанов и согревшиеся от его живота яблоки чёрт знает с какой удалью прыснут поверх пояса и убегут, раскатятся по ночи. Где тогда их искать? Он всё ýже стягивал матерчатый ремень, пошатываясь под тяжестью яблок.
– Ма-а… отдохнём… – без аппетита канючил Глебка. Знал, никакого привала мама не сделает с таким чувалищем. Ну, опусти его на землю, чуть расслабься, уленись – уже не поднять ей самой эту скалу, и в горах среди ночи никакая душа тебе не пособник.
– Опять за рыбу гроши… Начинается стара писня! – нарочито сердито отзывается Поля, хотя преотлично понимает парня. Эта передышка ей и самой надобна. Помолчав, продолжает тоном ниже: – Не ты один устал… Я все ноженьки по щиколотку стоптала и мовчу. Сынок, ещё трошечки подожди.
Мальчик знает, до мельницы привала не выпросить. Там, на мосту, не ссаживая с плеч мешка, мама привычно обопрётся на деревянные перила, сбросит пот с лица, подправит волосы, косынку… А ну пройдёт и не заметит мост? Потому уже за целую версту до воды уточняет:





 ?
?



