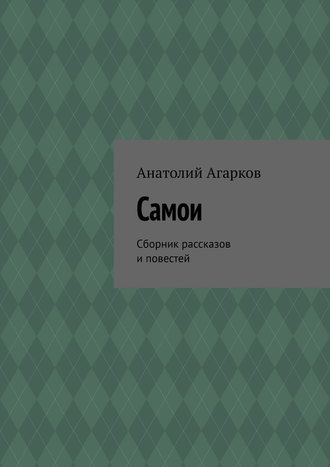
Анатолий Агарков
Самои. Сборник рассказов и повестей
– Воришка несчастный, сопли подтери.
– Я не сопляк, – Антон обиженно отвернулся, сгорбился и пошёл нетвёрдой походкой. Но недалеко. Его повело сначала вперёд, потом назад. Мальчик сбился с шага, засеменил и, наконец, неуклюже сел на подогнувшиеся ноги.
– Совсем забегался, – ворчал Фёдор. – Только не ври, что в доме нет куска хлеба, голодом тебя качает.
Он отнёс мальчишку на сеновал. Уходя, напутствовал:
– Матери я ничего не скажу. Но если узнаю, будешь продолжать, я тебя сам одним махом за всё сразу….
Он скрутил что-то невидимое в ладони и дёрнул к себе – будто серпом подрезал колосья.
У Антошки ни с того, ни с сего потекли слёзы.
В то утро в Табыньшу пришло лето. Жара струилась по подсыхающей земле, и она запарила под солнцем.
Нюрка Агаркова, не дождавшись сестёр, пошла занимать очередь за кашей. У плетня на куче перепревшего навоза сидел мальчишка лет пяти и, уцепившись тоненькой ручонкой за палку, отталкивал худую женщину, свою мать. А та тянула парнишку к себе. У матери было перекошено от бессилия лицо, у сына – упрямое, с прикушенной губой.
Мальчишка то ли боялся идти дальше, то ли у него не было для этого сил, а женщина, сама, еле двигаясь, не могла уже тащить его. Наконец мать сдалась и отпустила его ручонку. И вдруг затряслась в беззвучных рыданиях так, что страшно было смотреть.
Нюрка знала их: и женщину, и её сына – Ваньку Пинженина, с которым не раз играли вместе.
Ещё издали она заметила толпу ребятишек и нескольких взрослых, собравшуюся посреди улицы там, где белёные мазанки, полузатопленные вишнёвыми садами, расступились, образуя деревенскую площадь. В центре большой котёл на колёсах дымил трубой. Поодаль на траве курили красноармейцы с винтовками. Но всеобщее внимание привлекал приземистый мужчина в штатском. Широкоскулому лицу его, особенно глазам, откровенно не хватало выразительности. Зато уж чего было в избытке, так это железных зубов во рту.
Это он, орудуя поварёшкой, раздавал ребятишкам кашу, вкуснее которой не было ничего на свете. Его любила и узнавала вся деревенская детвора. И Нюрка тоже. Она даже завидовала его собаке, кудлатой дворняге с репьями на хвосте, которая могла повалиться на спину и заскулить от великого счастья у ног своего хозяина. Сейчас она катает между лапами пустую банку, вылизывая в тысячу первый раз давно выветрившийся запах американской тушёнки. Но ведь Нюрка не дворняжка. Она встала в затылок последней в очереди девочки, прижимая к груди чашку и ложку.
Железнозубый дядька открыл огромную крышку котла, его окатило пахучим паром. Быстро перебирая лапами, дворняжка подползла к сапогу своего хозяина – в глянцевом голенище отразилась острая собачья морда.
Началась раздача каши. Получившие свою порцию усаживались на траве. Нюрка быстрым ревнивым взглядом подсматривала за ними. Вот у этой лупоглазой девочки болезненного вида совсем отсутствует аппетит. Соседские мальчишки Шумаковы дождались своей очереди. Старший, Колька взял свою порцию и бочком, бочком в сторонку, жуя на ходу. А младший, Котька, рванулся бежать куда-то и вместе с кашей со всего размаху – в пылюку. Вот умора! Вот дурак!
Нет уж, думала Нюрка, она своего не потеряет – и кашу всю съест и чашку вылижет.
Скулила от нетерпения дворняжка. Народ всё подходил и подходил. Показались Нюркины сёстры. Они вели под руки ослабевшего Антона. Показалась женщина, тащившая сына за руку, но это был не Ванька Пинженин. Пришла Наталья Тимофеевна с малолетним Егоркой на руках.
Нюрка уже доела свою порцию и вылизывала чашку, вертя её в руках, как та дворняжка банку, когда появилась деревенская дурочка Маряха. Железнозубый ей отказал, заявив, что каша только для детей. Тогда она села неподалёку на землю и стала раскачиваться, и драть седые космы на непокрытой голове. Её надрывный плач далеко разносился между домами.
– Будь ты проклят! – вопила Маряха, лупя кулаками по земле. – Узнаешь у меня, как обижать старуху.
Устав причитать, она поднялась с земли и, продолжая громко стонать, заковыляла прочь.
Нюрка, набравшись храбрости, ещё раз подошла к котлу. Железнозубый это приметил.
– Что, мало? – Хмуро спросил он. – Курочка по зёрнышку клюёт, а сыта бывает.
– Не, дяденька, это не мне, – Нюрка ткнула пальцем в угловой дом, – Там мальчик у забора сидит, он сам дойти не может.
– Врёшь, конечно, – нерусский акцент железнозубого проявился явно, – но как убедительно. И это стоит обедни!
Он щедро перевернул свою поварешку над Нюркиной чашкой, потом подал хлебный ломоть. Девочка не думала никого обманывать, но и не гадала, что ей поверят.
Пинженины, Ванюшка и мать, сидели всё у той же, заросшей лебедой кучи навоза. Пока Ванька торопливо ел, давясь непрожёванным хлебом, а мать отрешённо, но неотрывно, смотрела на него, Нюрка играла в считалку, загибая пальчики:
– Птичка-синичка дай молока…
Тем временем Антон Агарков упал в обморок. Должно быть, от запаха каши, решили люди. Его оттащили в сторону и окатили водой из горшка. Он пришёл в себя, но к пище так и не притронулся.
Солнце поднялось совсем высоко, отвесные лучи немилосердно палили землю, дрожало прозрачное марево нагретого воздуха. Фёдор, управившись по хозяйству, ушёл с тележкою в лес – собирать хворост. А когда, возвращаясь, остановился утереть пот, его окликнули из ворот родительского дома.
В комнатах было тихо. Напуганные необъяснимым девчонки жались по углам и друг к другу. Наталья Тимофеевна, вслед за мужем оплакавшая трёх дочерей, без криков и стенаний приняла на свои плечи новое горе. Сидела она за столом в тени закрытого ставнями окна и, не мигая, смотрела на свои руки. Антон лежал на родительской кровати. С одного взгляда было видно, что он мёртв – лицо побледнело и вытянулось, а вокруг закрытых глаз толклись мухи.
Фёдор сразу припомнил и непонятную Антонову слабость и бледность. И даже слова его последние. И чтобы он не делал остаток этого дня, когда хлопотал об устройстве похорон, какая-то доступная загадка тревожила его сознание. Казалось, не хватает лишь малого штриха, зацепочки, чтоб всё стало на свои места, чтобы можно было объяснить необъяснимое. Белый налёт, что засох у Антошки на губе, шилом колол сердце, будил память.
Ночью то и дело принимался хлестать дождь. Ветер налетал порывами, но, не сумев набрать силы, гас. Однако после полуночи непогода стихла, лишь косматые клочья облаков проносились по небосклону, заставляя плясать полную луну. Фёдор, горевавший с матерью и старшими сёстрами у гроба, вышел покурить.
Ночь разлилась тёплая и влажная. У края земли порой вспыхивали зарницы, но грома не слышно. Кто-то проковылял огородом и скрылся под сенью кутеповской бани. И хотя низкие тучи то и дело закрывали луну, а ветер шумел листвой, заглушая все звуки, Фёдор безошибочно определил полуночника.
Вслед за старухой он прошёл в баньку, чиркнул спичкой, поднёс её к морщинистому лицу Кутепихи:
– А ведь это ты, ведьма, брательника моего отравила.
Старуха ничуть не испугалась ни его неожиданному появлению, ни словам.
– И я Феденька, таковская была – последнее с себя отдавала, – её дребезжащий голос звучал, казалось, на пределе старушачьих сил. – А теперь не хочу, чтобы внучка моя с голоду сдохла… и ребятёночек твой. Так-то вот.
Фёдор, удивляясь своему спокойствию, засветил ещё одну спичку, нагнулся, с кучи лома за каменкой поднял железный прут и без размаха, вполсилы ударил старуху по голове. Та не шумно упала. Выждав немного, Фёдор наклонился, нащупал костлявую руку. Несколько слабых конвульсий шевельнули пальцы, и сиплые вздохи оборвались. Фёдор достал из-за каменки увесистый обломок чугуна, сунул его Кутепихе запазуху, надорвав кофту. Потом взвалил тело на плечо и вышел, пригнув голову.
От озера пахнуло болотной сыростью, Не доходя до воды, он скинул сапоги, поболтав в воздухе ногами. Прочмокал илистым берегом. В зарослях куги открылся чистый плёс. Зайдя в воду по грудь, Фёдор спустил с плеча труп и погрузил его в тёмную воду. Юбка вздулась пузырём и тут же опала, с лёгким шипением утянулась на дно.
Фёдор постоял растерянно, посмотрел на свои руки, зачем-то понюхал их и начал отмывать. Забывшись, зачерпнул и хлебнул солоноватую воду. Его стошнило.
Отплёвываясь и кашляя, он брёл к берегу, а потом долго искал в темноте сапоги, и совсем расстроился, когда обнаружил, что подмок табак.
Свадьба
Люди умные и энергичные борются до конца,
а люди пустые и никуда не годные подчиняются
без малейшей борьбы всем мелким случайностям
своего бессмысленного существования.
(Д. Писарев)
Человек живёт своей памятью. Если было что в прошлом приятного, счастливого, удачного да забылось, так считай, что и не было ничего. И жизнь начинается с того момента, который первым запомнился.
Для Егорки Агаркова осознанный бег времени начался в январе 1924 года, хотя не было тогда мальчишке и пяти лет. Всю жизнь хорошо помнил он свадьбу старшей сестры, Федосьи, а дату никак не перепутаешь – в те дни страна скорбела по Ленину.
Быть может, отдельные эпизоды привнесены из других временных отрезков, но рассказ о том дне, излагаемый в течение долгой жизни неоднократно, имел свою стройность и завершённость.
Просторный дом с вечера плохо протапливался, а к утру напрочь выстужался. По этой причине обитатели его спали кучно, насколько позволяли лежанки. Егорка, как самый маленький, ложился с матерью на родительской кровати. Нюрка порой, замёрзнув среди ночи, перебегала к ним, что, конечно же, мальчишке не нравилось. Когда во сне их ноги соприкасались, Егорка машинально отдёргивал свою и, в конце концов, свернувшись калачиком в углу кровати, просыпался.
Рассвело.
Мать хлопотала по дому. Егорка услышал, как просыпается Нюрка, чмокает губами, вздыхает, но бранится с ней не стал. Дрожа от холода, поднялся, осторожно ступая босыми ногами по студёным половикам, подошёл к двери и выглянул на кухню. Один её угол был косо освещён солнцем. Там на лавке стояло цинковое корыто с горой набитое сладкими пирожками, шанежками, ватрушками, накрытое простынёй – на свадьбу. А ещё в сенях теснятся чугунки и чашки с холодцом. Там слышны возня и голос матери. На лавке у печи, развалившись пьяным мужиком, закинув ноги на тёплую стенку, спал пушистый кот. Печная пасть набита берёзовыми поленьями, от пучка лучин занимался огонь, хорошо отражаясь в окне напротив.
Наспех одевшись, сунув босые ноги в чужие валенки, тихо, стараясь не скрипеть дверью, Егорка вышел в сени.
– Я всю ночь не спал, – пожаловался он на Нюрку.
– Я тоже ночь не спала, да и как спать: шутка ли – гостей сколько будет, – мать разговаривала с ним, как со взрослым. Ей дела не было до его ребячьих обид.
Егорка вышел из сеней и вздохнул чистый морозный воздух. Солнце светило откуда-то сбоку, а прямо над головой клубился туман. Редкие снежинки по широкой спирали падали с высоты. Вертикально в небо поднимались два белых дыма из прокопченных труб соседних изб, на одном шевелилась чёрная подвижная тень другого.
Справив нужду, защемив меж пальцев соломинку, Егорка, подражая старшему брату Фёдору, «покурил», выпуская клубы пара. Мороз щипнул за нос и щёки, попытался юркнуть за шиворот. Мальчишка бросил, затоптав, «окурок» и засеменил в избу.
Был он единственным, хоть и маленьким мужиком в семье. Мать и старшие сестрицы баловали его, как могли. Зато от Нюрки хватало обид по самоё горло. После завтрака она заманила его в дальнюю комнату и, пользуясь свадебной суматохой, запёрла там.
Конечно, если бы Егорка принялся стучать и кричать, его бы нашли, а Нюрку наказали. Но уж больно не хотелось признавать своё унижение. Он забрался на кровать, готовый, если сестра всё-таки сжалится и выпустит его, показать полное презрение к происходящему, прислушивался к стукам, брякам, возгласам и смеху – в доме выкупали невесту. Там, конечно же, было веселей и интересней.
Дверь хлопнула в последний раз, голоса стали удаляться и пропали. Егорка уткнулся носом в подушку и заревел. Утопив горе в слезах, он уснул.
Между тем, свадебное гульбище натолкнулось на непреодолимое препятствие – председатель Сельсовета Иван Андреевич Шумаков не только отказал в регистрации молодым, но и пригрозил многими неприятностями веселящимся в дни всенародного траура.
Никто не желал прослыть белоэлементом, и тем более попасть в немилость к власти. Свадебный поезд как-то сам собой рассыпался, многие развернулись по домам. Наталья Тимофеевна блюдя обычай, торжественно и чинно встречала оставшихся у порога. Она кланялась им в пояс, рукой до земли, и говорила нараспев:
– Добро пожаловать, гости дорогие! Прошу не побрезговать угощением, отведать, что Бог послал.
Мужики, бабы проходили, выпивали стоя, крякали, вытирали ладонями губы, закусывали, поздравляли молодых, благодарили хозяйку и… бочком-бочком на улицу.
За столом собрались только близкие родственники.
У Фёдора Агаркова в тот день были и личные неприятности. Фенечка, усмотрев со стороны свекрови какое-то пренебрежение, наотрез отказалась быть на свадьбе и сына не пустила. Фёдор томился своим одиночеством и первым заметил отсутствие Егорки.
– Гости за столом, а хозяин спит.
Егорка проснулся, когда услышал голос старшего брата и почувствовал его широкую и тёплую ладонь на своём плечике. Он оттолкнул её и протёр кулаками глаза.
– Что надулся? Ну, говори уж, что натворил.
– Ещё не натворил, – со вздохом ответил Егорка, – но скоро натворю.
– Ну, когда натворишь, тогда и ответ будешь держать, – сказал Фёдор, – А раньше времени не стоит каяться. Ну, что же ты лежишь? Вставай, угощай гостей.
А сам вместо того, чтобы поднять Егорку, привалился на кровать и придавил его.
Фёдор хоть и держал себя с братом на равных, по возрасту ему в отцы годился – его сын Витька лишь на полгода моложе. Если бы не суровость Фенечки, Егорка дневал и ночевал бы у Фёдора, а племяннику завидовал лютой завистью. Сейчас он был почти счастлив.
– Расскажи про войну, – теребил брата.
– Я её не видел, – улыбнулся Фёдор. – Я от неё по лесам бегал.
– И что, совсем-совсем ничего не видел, не помнишь?
– Один только момент, когда нашу деревню освобождали. Со стороны Михайловки пушка бьёт, а белосволочь, казачьё там разное огородами драпает. Вот это сам видел.
Вошла мать.
– Что же это вы тут притулились вдвоём? – спросила она.
– Да так, войну вспоминаем, – сказал Фёдор. – Дверь не закрывай, пускай так.
– И ты войну вспоминаешь? – хмельно улыбаясь, спросила мать. Рука её опустилась Егорке на голову. – Сиротинушка ты моя, кровинушка.
– Ага. И я.
– И есть, что вспомнить?
– Ага.
– А ты помнишь, как мы чуть не угорели однажды?
– Не-а. А когда?
– Ты ещё вот такусенький был. Проснулась я тогда, чувствую – задыхаюсь. Поднялась и хлобыстнулась на пол. До двери доползла, открыла. Воздух свежий пошёл – как-то мы отдышались. Выползли потом все на крыльцо и остаток ночи там просидели.
– Холодно было?
– Да, прохладно. Но в дом возвращаться страшно. Так и сидели, дрожа, пока не рассвело. А что ж ты хочешь – бабы, один мужик – и тот на руках.
Между тем, из горницы в приоткрытую дверь доносились возбуждённые голоса, разговор там шёл накалённый. Мать и Фёдор с тревогой поглядывали туда, прислушивались.
– Ну, пойдём, Егорушка, я тебя шанежками покормлю, – позвала за собой Наталья Тимофеевна.
Расположившись по одну сторону стола и повернувшись вполоборота, ругались старшие сёстры, Татьяна и Федосья. Их мужья молчаливой поддержкой сидели рядом, бросали хмурые взгляды друг на друга и стоящие перед ними наполненные стаканы.
– Да ты хоть соображаешь, что говоришь? – кричала, распаляясь, Татьяна. – Ведь я выходила – какое приданое? Постель одна да тряпки кой-какие. Ведь хозяйство-то Егорово. А матери что останется, малышне?
– Да что я ненормальная что ли? – кричала Федосья. – Всегда так бывает – наследство меж детьми делится. Да и кому сейчас по силам такое хозяйство ворочать? Ваньке, вон? Да больно надо. Он теперь днями спит, а ночами с Лизкой шушукается.
Бывший военнопленный австриец Иоганн Штольц сидел в углу стола, в одиночестве, опёршись о стену могучим плечом. Его крючковатый нос казался прозрачным под солнечным лучом. Восемнадцатилетняя Лиза, стройная миловидная девушка, стояла у печной стены, спрятав руки за спиной, от слов сестры широко распахнула томные голубые глаза и ярко зарделась.
– А это уже не ваше дело! – ответила она. – С кем я буду – не ваше дело.
Белое, искажённое лицо Татьяны повернулось к ней:
– Тебе, голуба, тоже наследство подавай?
– Мне, как всем, – сердитая, Лизавета становилась ещё красивей.
– Чего сиднем сидим, мужики? – Фёдор поднял перед собою стакан.
Выпили. Женщины примолкли, косясь на них.
Похрустывая долькой лука, рассудительный Егор, Татьянин муж, сказал:
– Тут надо сразу определиться: если будем что делить – давайте делить, а не ругаться, если нет – то перестаньте кричать: на свадьбе ведь. Как, мать, а? Твоё последнее слово в доме,… и первое тоже.
– А ты куда торопишься? – решился вставить слово молодожён Илья, приехавший за Федосьей из неблизкого Бутажа. – Без нас, наверное, решат, что к чему. Без очереди только на мороз пускают.
Голос его был злой, чёрные кудри задиристо тряслись.
Егорку охватили какое-то отчаяние напополам с весельем: надо же – оказаться в гуще таких событий! Вот если драка разразится, они с Фёдором всем накостыляют, да ещё Ванька-австрияк пособит. Егорка елозил по лавке, поглядывая на спорящих.
– Ну, чего вам? – обиженно поджала губы Наталья Тимофеевна, – Косилки-молотилки отцовы? Да забирайте, всё равно ржавеют, а скотину не дам – чем же ребятишек кормить стану? Эх, вы… дети, дети.
Если бы не блуждающий пьяный взгляд и неверные движения, мать своим авторитетом смогла бы, наверное, загасить ссору.
– Мать, а ты Ивана спросила? – подалась вперёд Лиза. – Он всё делает-делает, а всё, как работник. Так и останется ни с чем.
Федосья даже побагровела:
– За дуру что ли меня принимаешь? Скажешь, и с Ванькой ещё делится? Всякую ерунду говоришь, голову всем морочишь. Он что, кормить вас будет?
– Ладно, подавись своим куском! – Лизавета проглотила обиду и отвернулась.
– Что такое? – вдруг сделавшись совершенно белой, пробормотала Татьяна.
Егор вскочил из-за стола, схватил её за плечи, иначе бы она, наверное, упала со стула.
Федосья, презрительно поджав губы, посмотрела на неё и отвернулась.
– Что же ты молчишь? – отчаявшись услышать от тёщи вразумительного слова, Егор обратился к Фёдору.
Шурин долго и пристально смотрел на него, потом вдруг неожиданно сказал:
– Отстань!
– Нет уж, – зло говорила пришедшая в себя Татьяна, – как мне, так и всем. Вон Фёдор в одних дырявых портках женился.
– Да? Ваньке всё останется? – закричала Федосья. – А случись что с матерью, он детвору из дому выгонит, нам же на шею повесит.
Штольц молча сидел, напустив на лицо всю имеющуюся суровость. Лизавета, не скрывая тревоги, вздыхала и поглядывала на него. Егорка смотрел на Ваньку и понимал, что не всегда, наверное, он был таким неразговорчивым, каким он привык его видеть, когда-то, должно быть, он тоже бывал весел и беззаботен, болтал и смеялся на своём австрийском языке.
– Плохо ты его знаешь, – выразительно сказала Лизавета.
– Э-э-э! – махнул рукой кудрявый Илья. – Немчура он и есть немчура. А то ещё к себе уедет.
– Что ты брешешь! – задрожала от ярости Лизавета, и перекосившееся лицо её потеряло привлекательность.
– Ну-ну! – Фёдор вскинул на неё укоризненный взгляд.
– А что ты выгораживаешь его, зачем? – Федосья в основном нападала на работника, а теперь коршуном налетела на сестру.
– А тебе какое дело? – хрипло проговорила Лизавета.
– Замуж что ли собралась?
– Может быть.
Небо за окном почернело, пошёл снег. Со столов убрали почти нетронутые закуски, поставили самовар. Пили горячий чай, громко крякая и отдуваясь, лениво переругивались.
– А ты здесь что сидишь – пора спать, – сказала Егорке мать и выставила из-за стола.
– Идём, брат, – подмигнул Фёдор, – Я тебе про войну расскажу.
Егорка разделся и лёг. В полутёмной комнате было прохладно и тихо. Перед глазами поплыли кольца, похожие на полупрозрачные срезы лука. Он вдруг почувствовал, что по щекам его текут горячие и едкие слёзы. Чувствовал, как усталость входит в руки и ноги, доходит до кончиков пальцев, потом подступила дремота.
Егорка ожидал Фёдора и думал о нём. Он уже осознавал, что есть две породы людей – одни много говорят, кричат, возмущаются и всегда недовольны, а другие молчат и делают по-своему, и всё у них получается. И ещё он думал, как приятно быть братом человека, у которого всё получается.
Ночью Егорка несколько раз просыпался от громких голосов за дверью. И засыпал, неведая, что там решают и его судьбу.
Договорились всё-таки делиться. Даже дом, крепкий ещё, должен быть разобран. Фёдор получал часть прируба. Старшим дочерям – по амбару.
Лизавета в ту ночь была просватана за контуженного австрияка, и они получили свою долю наследства. Большая семья Кузьмы Васильевича Агаркова распалась, рассыпалось и его хозяйство.
Фёдор давно собирался переехать на хутор, где с землёй было вольготнее, уговорил и мать. Наталья Тимофеевна сильно постарела за эту ночь, стала слезливее.
Расставались родственники хоть и без ругани, но весьма настороженными и без сердечных объятий.
Егорке приснился сон. Странный пирог летал по воздуху, и чьи-то большие руки, высовываясь из тумана, отламывали от него куски. Проснулся он с воспоминанием о коварстве сестры и о том, что он пропустил на свадьбе самое интересное. Но интересное в жизни только начиналось.







