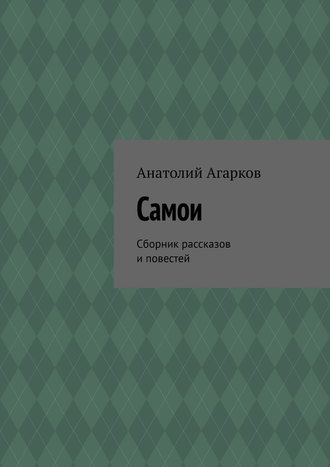
Анатолий Агарков
Самои. Сборник рассказов и повестей
Два атамана
Путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы
с низким и вредным, с бедствиями и пороками
людей не закрыт никому и никогда.
(Н. Чернышевский)
Летом 1919 года прокатился фронт по Южному Уралу и затих вдали. Возвращались домой уцелевшие под свинцовыми дождями мужики.
Вернулся в Табыньшу Федька Агарков, ослабший, отощавший – кожа да кости, с яростным желанием вступить в Красную Армию. Но в тот же день, объевшись горячих и жирных щей с бараниной, почувствовал такую резь в животе, что едва добрался до кровати и объявил – мол, пришёл его последний час. От корчей, вызванных рвотой, у него выступил пот. Попросил укрыть его потеплей и оставить в покое.
Мучения Федькины затянулись на две недели. Настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах, ходя по нужде. Худой, жёлтый, с распухшими, в болячках, ногами, лежал на родительской кровати, безучастно глядя на хлопотавших подле него. А когда начал поправляться, то не вспоминал уже о военной службе.
Встав на ноги, не спросясь матери, женился вскоре на Фенечке Кутеповой, спасая девку с округлившимся животом от позора. Стал он молчалив и задумчив, будто не только повзрослел разом, а и постарел даже.
От далёких берегов Амура вернулись в станицу Соколовскую красные казаки со своим лихим командиром Константином Богатырёвым. Ни единой царапины кроме рубца на плече от братовой шашки не получил он в жарких боях, а лишь орден на грудь из рук самого Василия Константиновича Блюхера.
Соратники всячески хвалили его:
– При желании большим командиром мог бы стать.
А станичные старики качали головами:
– Так что ж к коровьему хвосту вернулся?
На что Константин отвечал:
– Кусок хлеба для простого человека так же вкусен, а может быть, вкуснее, чем для генерала.
Семён Лагутин не ушёл на восток с белыми частями. Словно затравленный волк, отбившийся от стаи, рыскал он лесными тропами, зло покусывая Советскую власть в деревнях и станицах, но уже не встречал прежней поддержки даже среди казаков.
Особенно тяжело пережили первую мирную зиму. Голод, постоянный страх засады гоняли отряд, таявший будто снежный ком, по глухим хуторам, кордонам и заимкам. К лету осталось у Лагутина едва ли с десяток человек, все вроде него – отпетые и бездомные.
Понял Семён, что пришёл срок его вольности, а может и самой жизни. На лесной заимке у одного богатого казака впал он в запой и никак не мог остановиться уже которую неделю. Соратники, боясь доноса и ЧОНовской облавы, мрачнели день ото дня.
Посыльной председателя станичного Совета прибежал в дом Богатырёвых в предсумеречный час.
– Да не егози ты, – ворчал Константин, натягивая сапоги, – Толком обскажи, что стряслось.
Прибежавший, тяжело дыша, пил из ковша, поданного Натальей, и зубы его стучали о металл.
– Игнат Иваныч прислал, – давился он глотками и торопился рассказать. – Скажи, говорил, бандиты понаехали…. Сам Лагутин с ними…. Во дела!
– Лагутин, говоришь? – Константин повёл широкими плечами и усмехнулся, поймав тревожный взгляд Натальи. – Ну, пойдём, глянем.
– Ты бы это, ружьё взял или покликал кого, Алексеич.
– Трусоват ты, братец, как и твой начальник.
У станичного Совета подле оседланных коней стояли четверо казаков, за плечами у них были винтовки, на боках – шашки. Константин приостановился, оглядывая незнакомцев, хмыкнул, качнув головой, и шагнул на крыльцо.
Председатель станичного Совета Игнат Предыбайлов метался от окна к окну, выглядывая Богатырёва. Усмотрев, сел за стол и попытался придать лицу начальствующее выражение, но тут же забыл о нём, едва Константин переступил порог, зачастил, волнуясь:
– Что же ты один? Хлопцев бы своих покликал. И не вооружён. Бандиты пожаловали, а уполномоченный где-то запропастился. Что делать – ума не приложу.
Константин сел на стул, положив могучую руку на край стола:
– Ну, рассказывай.
– Лагутина привезли спеленатого, – выпалил Предыбайлов, утирая цветастым платком вспотевшую лысину. – Амнистию просят.
– Так напиши.
– Думаешь? – Игнат подозрительно покосился на Богатырёва, – А меня потом не того… за одно место?
– А если они тебя сейчас того, – издевался Константин над безнадёжным трусом.
– Вот сволочи! Ведь могут, а, Лексеич?
– Напиши им бумагу, какую просят, да винтовки отбери – ни к чему они в мирной жизни.
– Амнистию я им напишу и печать поставлю, а винтовки ты бы сам. А, Лексеич?
– Пиши, – Богатырёв махнул рукой и вышел из Совета.
Казаки, хмуро курившие у своих коней, разом побросали окурки, подтянулись, бряцая оружием и амуницией. Они уже догадались, что в Совет пожаловал очень важный человек, может быть, сам Богатырёв.
Константин сошёл с крыльца, топнул ногой, указывая место:
– А ну, клади сюда оружие.
Четыре винтовки, четыре шашки послушно легли в одну кучу. Константин кивнул посыльному, и тот засуетился, таская в Совет оружие охапками, как дрова.
Богатырёв шагнул к казакам, раскрывая кисет:
– Нагулялись, соколики?
– До тошноты, отец родной….
Вместе с клубами дыма потекла неспешная беседа.
Появился Предыбайлов. Руки его с листами бумаги заметно тряслись.
Константин жестом остановил его:
– Давай сюда.
Мельком взглянул:
– Что ж ты фамилии-то не вписал?
– Да нам вроде бы и ни к чему почёт лишний, – сказал один из казаков. – Хоть и враг он новой власти, а ведь командиром был, хлеб-соль делил…. Лишь бы печать была.
– Печать есть, – раздавая амнистии, сказал Богатырёв.
Когда силуэты верховых растворились за околицей, Константин похлопал обмякшего Предыбайлова по плечу:
– Ну, показывай своего зверя.
Лагутин лежал на полу в подсобном помещении, скрученный верёвками по рукам и ногам.
На звук шагов он шевельнулся и, выматерившись, прохрипел:
– Сволочи вы, а не казаки…. Дайте ж до ветру сходить.
Константин присел на корточки, распутывая верёвки, и через минуту перед остолбеневшим Игнатом предстал разбойный атаман Семён Лагутин, с обрюзгшим от перепоя лицом, но по-прежнему сильный и опасный. Он растирал ладонями крепкие запястья, поводил широкими плечами, поглядывал на присутствующих с ненавистью и презрением. И вдруг сгорбился и засеменил неверными шажками на крыльцо, а с него к ближайшим кустам сирени.
– Убежит, – ахнул Предыбайлов.
– Куда? – пожал плечами Богатырёв и прошёл в кабинет. Игнат за ним, оглядываясь на входные двери и страшась отстать. Константин по-хозяйски расположился за столом председателя Совета. Тот примостился просителем на лавке.
– Что ж ты хлопцев не покликал? Всё удалью своей кичишься. А ну как.… Вишь, он какой…. И терять ему нечего.
– Знаешь, Игнат, одни живут, играя со смертью, другие умирают, хватаясь за жизнь. Ты-то как, жить хочешь?
Предыбайлов хоть и был потомственным казаком, но с детства отличался хлипким телом и слабою душой, а в председатели попал по своей грамотности. Богатырёв его презирал.
Вошёл Лагутин, сел на лавку напротив, пошарил по карманам и жестом попросил закурить. Константин бросил ему кисет.
– Облегчился?
Семён кивнул головой и, пуская под нос клубы дыма, неожиданно тепло сказал:
– В самый раз. Думал, обгажусь. Дело такое, что не отвертишься.
Константин понимающе кивнул головой и взглянул на белого, как мел, Предыбайлова:
– Иди-ка ты домой. Ишь как вымотался – с лица прямо спал. А мы тут с гостем твоим до утра покоротаем.
– Покоротаем, – согласился Лагутин.
А председатель станичного Совета охотно закивал, засуетился и мигом исчез из своего кабинета.
– Есть хочешь? – спросил Богатырёв.
Лагутин покачал головой, отрицая, а потом жестом показал, что не против опохмелиться.
– Припоздал ты. Чуть пораньше – Игнатку бы заслали, а теперь терпи: я тебе не посыльной, да и ты не гостем у меня. Как скрутить себя дал, Семён?
– Хмельным взяли, сволочи.
– Хуже нет, когда свои продают.
Помолчали. За открытым окном сгустились сумерки, посыпал дождь, шелестя листвой. Богатырёв в сердцах сплюнул:
– Откосились!
– Дождь с ночи – надолго, – подтвердил Лагутин. – Окладной. Однако хорош для сна – убаюкивает.
– Ну, давай ложиться, – согласился Константин и потушил керосиновую лампу.
Расположились на лавках у противоположных стен. Слышен был перестук дождя, ветка сирени скреблась о ставню, мыши под полом затеяли возню. Вот и все звуки. Потом по комнате растеклись глубокое дыхание и тихие посвисты.
Константину снилась молодая Наталья, берег пруда, заросшего ряской. Она в прозрачной ночной рубахе манила желанным телом, звала жестом за собою в воду.
Константин шагнул и разом провалился в чёрный омут, накрывший его с головой холодной водой, дно пропало из-под ног. Он попытался всплыть, но голову сдавили железные тиски, к ногам будто жернова подвесили, и перехватило дыхание. На грудь навалилась непомерная тяжесть, воздуху в ней становилось всё меньше и меньше. Константин закричал, рискуя захлебнуться, и …очнулся.
Чьи-то сильные руки сдавили ему горло, сверху навалилось тяжёлое тело, лицо обдавало горячим дыханием. Богатырёв перехватил запястья, пытаясь разжать удушающую хватку, напрягся, и ещё. Противник застонал – сила ломала силу. Хватка на горле ослабла. Константину удалось вздохнуть, и он почуял смрад перегара. В то же мгновение Богатырёв саданул противника коленом в бок и замешкавшегося – обеими ногами в грудь.
Отдышавшись, Константин зажёг лампу, присел за столом, скручивая цигарку.
Лагутин, сидя на полу, мотал головой, сплёвывал на пол и бороду сгустки крови из прокушенной губы.
– Силён ты, Богатырёнок, ногами драться, – ворчал он, ощупывая грудь и зачем-то спину.
Константин, наконец, унял дрожь в руках и прикурил.
– Как был ты жиганом, Лагутин, так и подохнешь, – зло сказал он и сплюнул в сторону атамана. Потом, будто пожалев, смягчил тон. – Ты, Семён, на что надеешься? Куда бежать-то собрался?
– Да ни на что. Просто зло взяло – сопишь ты весь такой правильный, безмятежный, наверное, бабу во сне тискаешь, будто страх насовсем потерял.
– Я, Семён, счастье своё в боях заслужил и страх там же оставил.
– Конечно, конечно. И когда братуху своего, как капусту….
Константин промолчал, помрачнев. Взгляд его остекленел.
Лагутин, наконец, поднялся, прошёл неверным шагом к столу, взял Богатырёвский кисет, свернул цигарку, закурил, прервал затянувшееся молчание:
– Почему так получается: кому молоко с пенкой, кому – дыба и стенка?
– Ну, покайся, – усмехнулся Константин. – Расскажи о своей сиротской доле. Глядишь, в чека и посочувствуют.
И будто снежный ком толкнул с горы – разговорился Лагутин, изливая наболевшее, разгорячился, торопясь облегчить душу, будто в последний раз видел перед собой понимающего человека.
За тем и ночь прошла. Дождь за окном иссяк. Утро подступило хмурое, но с солнечными проблесками.
Когда по улице прогнали стадо, на крыльце раздался дробный стук каблуков. Вошла Наталья Богатырёва, по-прежнему крепкая и живая, смуглолицая от загара. Подозрительно осмотрела мужа, незнакомца, стол и все углы помещения. Не найдя предосудительного, всё же не сдержала приготовленные упрёки:
– Прохлаждаешься? Отец уж Карька запряг, на покос сбирается, а он прохлаждается. Старый кряхтит, а едет, потому что надо. Ему надо, а тебе ни чё ни надо. Так всю жизнь шашкой бы махал да махоркой дымил. У, анафемы, стыда у вас нет!
Наталья ушла, хлопнув дверью.
– Вот бабы! – Константин не знал, как оправдаться за жену. – А ведь верно – на покос надо ехать. Припозднились мы – трава перестояла, да и дождик кончился.
Пришёл заспанный Предыбайлов и своей унылой физиономией подстегнул решимость Богатырёва:
– Ты, как хочешь, Игнат, а мне на покос надо ехать. Не брошу ж я старика.
– Да ты что! – председатель даже лицом побелел от мысли остаться наедине с Лагутиным. – Ты ж вызвался помочь. Не сгорит твой покос.
– Ни кому я в помощники не назывался, – отмахнулся Константин. – А покос-то как раз и сгорит. Тут день упустишь – год голодным будешь. Да и отца ты моего знаешь – упрямый старик: что задумал – умрёт, но сделает. Вообщем, пошёл я, бывай.
– Константин Алексеевич, – взмолился Предыбайлов. – Не губи, родной. В чеку его надо, в Троицк везть. А я-то как – убьеть по дороге. Ты вот что, забирай его с собой – сам ведь развязал….
– С собой, говоришь? – Богатырёв оглянулся от дверей, смерил взглядом атамана, – Косить не разучился?
Лагутин покривился. После ночной исповеди к нему пришли – на душу умиротворённость, на лицо отрешённость.
– Пошли, говорю, со мной, – сказал Богатырёв Лагутину. – Чека ещё подождёт.
Ближе к полудню ветерок разогнал облака, солнце поднялось высоко, и под его лучами запарили окрестности. Старший Богатырёв, Алексей Григорьевич, правил лошадью и помалкивал. Константин с Лагутиным вели неспешный разговор.
– Спроси любого из нас – за что дрались? – и оба скажем: заступались за обиженных, поднимали униженных, наказывали злодеев.
– Тебя послушать, – отмахнулся Константин, – так все бандиты станут заступниками. А то, что мы землю у богачей отобрали – плохо что ли?
– Будто ты до революции безземельным был, – усмехнулся Семён.
– Не обо мне речь, о народе.
– Дак ведь и я народ – отец пахарь, мать пряха.
– Бесконечная у вас получается песня, – не выдержав, хмыкнул Алексей Григорьевич. – А я вот думаю, когда один слепец ведёт другого, оба в яму угодят.
Отцу Константин возражать не решился.
А атаман сказал:
– Я, по крайней мере, казацкой присяги Отечеству и царю-батюшке не порушил.
К широкому лугу, заросшему густой травой и пёстрыми цветами, подступал с одной стороны берёзовый лесок. Здесь и решили разбить табор. Дед Алексей распряг лошадь, пустил её в вольную траву и занялся жердями для шалаша. Константин с Лагутиным выкосили на опушке кружок, сгребли пахучую траву и достроили жилище. Пообедав, легли отдыхать – косари в шалаше, а кашевар дед Алексей под телегою.
Проспав добрых три часа, Лагутин проснулся бодрым и свежим, даже боль в груди от ночной потасовки прошла.
– Я всегда говорил, – крикнул он, выползая из шалаша, – что ни горесть, ни радость не бывают слишком продолжительными. Если горесть слишком затянулась, значит, радость где-то совсем рядом.
Богатырёвы курили подле телеги. Константин промолчал, настраиваясь на тяжёлую работу. Старик закивал, соглашаясь.
– Трава прямо стоит, – сказал Константин, – крутиться не придётся. Наладим прогоны из конца в конец и пойдём один за другим. Ты уж, отец, не суйся – пятки подрежем.
– Какой из меня косарь, – согласился Алексей Григорьевич.
– Когда на ужин-то приходить?
– А как заря на небе засмеётся.
Вскоре окрестность заполнилась звоном отточенных литовок и вздохами падающей травы. От табора потянул ленивый дымок и запах горящего сала.
День незаметно убрался за горизонт. Темнота сгустилась. Усталые косари, сидели у костра, дымили махоркой, разгоняя комаров. Распитая на троих бутылка самогона развязала Лагутину язык. Он ораторствовал, удивляясь в душе самому себе.
– Всё на земле совершает свой круг – за весною идёт лето, за осенью зима. Время идёт себе да идёт, вращаясь, как колесо, а человеческая жизнь неудержимо мчится к своему концу. Меня в чека расстреляют, ты, может, дома помрешь. А ведь помрешь, Богатырёнок, – никто вечно не живёт. И что останется?
– У меня дети, – сказал Константин, хлопнув на лбу комара, – у тебя дурная слава.
– Почему дурная? – обиделся Лагутин.
– Потому что бандит ты, и кровь безвинная на твоих руках.
– А так ли она безвинна? – спросил Лагутин после продолжительного молчания. – Ты подожди, немного времени пройдёт, и, может статься, теперешних героев врагами назовут. И наши имена припомнят без проклятий.
– Время выведет на свет все тайны, – подсказал концовку разговора дед Алексей.
Новый день начался со щебетания птиц, приветствовавших песнями красавицу-зарю, которая появилась на востоке, сияя красками во всю ширь безоблачного неба, и стряхивала на травы сверкающие капли.
– Господи! Красотища-то какая! – Лагутин выбрался из шалаша и с хрустом в плечах потянулся. – Спасибо, друг, что напоследок подарил мне такое счастье.
Константин не хотел быть другом разбойника и открыл было рот, заявить об этом, но обернувшись к Семёну, промолчал, немало удивлённый. Разбойный атаман, став на колени в росную траву, истово молился восходящему солнцу. Под крестным знамением длинная борода заворачивалась к самому лбу.
– Кто грешит и исправляется, тот с Богом примиряется, – оценил картину старший Богатырёв.
– Прежде всего, – наставительно сказал Лагутин, поднимаясь с колен, – надо бояться суда Божьего, ибо в нём заключается вся мудрость земная.
– Тебе кстати бы пришлась поповская ряса, – сказал Константин, тронув пальцем висок.
– Молодой ещё, – кивнул Лагутин деду Алексею, – глупый….
Роса отошла, и косить стало труднее. Лагутин бросил на рядок литовку, отёр ладонью пот и заявил, что не плохо бы перекурить.
– Прогон закончим и на табор, – сказал Константин, но тоже бросил косу и подошёл с кисетом, угощая.
Он чувствовал, как выматывается Семён, стараясь не отстать, но с каждым часом атаман слабел всё заметнее, и Богатырёв, жалея, сдерживал прыть свою раззудевшуюся.
– Ты, Петь, сильно-то не напрягайся – знаешь ведь, любому каблуки подрежу. Ты коси своей силой, а я своей – так мы больше свалим.
Константин и не заметил, что назвал Лагутина братовым именем, а Семён подметил, и тёплая волна благодарности нежной рукой коснулась сердца, мурашками пробежала по спине, омыла целебным бальзамом изболевшуюся душу. Украдкой смахнул нечаянную слезу, вытащил из Константиновых кудрей запутавшегося шершня и, прикуривая, с братской любовью похлопал по крутому плечу….
В станицах не принято потешаться над поверженным врагом, и потому провожали в дорогу молча.
Игнат Предыбайлов впряг своего коня. Константин Богатырёв уселся в ходок. Семён Лагутин примостился на облучке с вожжами в руках. Роль бывшему атаману досталась не из почётных. Но Семён в последние дни менее всего обращал внимание на земную суету, Его истовая набожность удивила даже деда Алексея.
– Святой человек, – перекрестил он готовый тронуться ходок.
Подошла Наталья:
– Скоро ль вернёшься? К вечеру-то ждать?
– Как знать? – пожал плечами Константин.
Путь до Троицка не близкий.
Голод
До сих пор история не представляла ни одного
примера, когда успех получался бы без борьбы.
(Н. Чернышевский)
Над мохнатым краем леса за Горьким озером поднялась луна. Этой ночью она была безупречно кругла и чиста, Её яркий свет залил округу, а звёзды, устыдившись, отлетели ввысь. Над спящей деревней пронеслась в исступлённой пляске распластанная летучая мышь. Издалека, над озером пронёсся тонкий, жалобный, волной нарастающий звук, словно невиданной величины волк выл на сияющую луну. И вновь установилась жутковатая полуночная тишина.
Не тревожа собак, огородом старой Кутепихи крались две мальчишеские фигурки. С задов избы горбился холмик погреба. Из-под его дощатой крышки поднимались густой запах плесени и чуть уловимый аромат чего-то съестного, от которого кружилась голова, и видимое теряло своё очертание.
– Ну что, ага? – Антон Агарков заглянул в лицо своему приятелю.
– Угу, – кивнул тот головой.
Освободив задвижку из скобы, они бесшумно подняли, а затем опустили за собой крышку погреба. В кромешной темноте спустились по ступенькам лестницы. Растопыренными пальцами вытянутых перед собой рук Антон нащупал осклизлый бок бочки, отодвинул крышку и сунул в нутро руку.
Его товарищ, привлечённый шумом, настороженно спросил:
– Ну, что там?
Антон промолчал.
Потом раздался аппетитный хруст, и его не совсем внятный ответ:
– Огурцы.
– Брешешь, – не поверил мальчишка.
– На, – Антон протянул на голос руку.
Наверное, в этот момент или чуть позднее с ними случилось совсем уже неуместное веселье. Они тыкали друг друга кулаками, давились, закатываясь, смехом, повизгивая, словно разыгравшиеся щенки. Их ломало и корёжило, и не погибли они в корчах лишь потому, что подспудно присутствующий страх удерживал их от громового ликования.
Наконец смех иссяк в них досуха, до икоты, и теперь казалось, что ничто в мире и никогда не рассмешит их. Веселье им даром не прошло: от солёного рассола заболели потрескавшиеся губы.
С вечера Фёдор Агарков засыпал трудно – долго ворочался, скрипел пружинами на самом краю кровати, чтоб не потревожить жену. А в эту ночь сон и вовсе не пришёл.
Луна лежала на полу большим ярким квадратом. Белела печь с синими, слегка закопченными петухами на штукатурке, с широким продымленным зевом топки. Через открытый дымоход влетала в избу ночная, вдруг ставшая незнакомой, жизнь полупустой деревни, мерещились какая-то возня, стуки и скрипы. Табыньша клокотала, словно перекипевшая каша, или все эти звуки рождались в затуманенной бессонницей голове?
Тонкая жилка забилась в уголке левого глаза. Желание курить стало нестерпимым.
Фёдор, натянув штаны, выскользнул за дверь. Постоял, прислушиваясь. Прихлынула неестественная тишина, собралась у висков, сделалась одуряющей и вязкой. Но в следующий момент в ней забрезжили привычные звуки. Тоскливо перекликнулись собаки. Вопросительно звякнуло неутешное коровье ботало.
Заподозрив неладное, Фёдор поспешил в хлев. На этот раз беда обошла его стороной. Все пять овец были целы и испуганно жались друг к другу, запёртые в загончике. Корова тревожно поводила мордой, а когда хозяин входил, шарахнулась от заскрипевшей двери.
Фёдор подкинул ей охапку свежей травы, но бурёнка только вздохнула тяжело и не притронулась к зелени. Она таращилась чёрными влажными глазницами и мотала головой.
Кабы не заболела, мрачно подумал Агарков.
На огороде полную силу набрали цикады. Серебряные струны их скрипок будоражили кровь, навевали мысли о чём-то давнем, юном, ушедшем навсегда. Фёдор уселся на крышке погреба, раскрыл кисет, свернул самокрутку, затянулся до икоты.
Сколько было пережито за минувший год! Неурожайное лето, голодная зима, моровые болезни, смерть близких. Весна застала в Табыньше много пустых изб. Люди собирали немудрёную поклажу, укутывали детей, крестили родной угол и трогали в путь.
Фёдор каждый раз выходил провожать, долго смотрел вслед, силясь угадать, что подняло людей с родной земли, что ждёт их на чужбине, и когда его черёд. Быть может, чтобы понять это, а не в поисках чужого добра ходил он на кинутые подворья, с беспокойством вдыхал холодную сырость опустевших жилищ.
Однажды в развалины дома забрела умирать ослабевшая от голода беспризорная девчонка, маленькая, чёрная, как галчонок. Она была страшно худа. Так худа, что даже воздуху негде было в ней поместиться, и он вырывался из неё с каким-то нервным присвистом. Девчонка не шевельнулась на его зов, будто не к ней обращались. Странная была пигалица – неподвижная, с большими, совсем не детскими глазами. Фёдор не услышал от неё ни звука.
Когда принёс найдёныша домой, Фенечка округлила глаза, подхватила сынишку на руки, метнулась в угол:
– Ты в своём уме – в дом заразу принёс.
– Она с голоду помирает, – глухо сказал Фёдор, вдруг сам заражаясь страхом от слов жены. – Куда её денешь?
– Выбрось! Выбрось! – крестилась Фенечка, – Отнеси, где взял, а лучше – закопай.
– Живого-то человека?..
Сползла с печи Кутепиха, молча прислушиваясь к происходящему. Обошла девчонку со всех сторон, осторожно погладила по голове, потом легонько дёрнула за волосы, как бы желая убедиться, что они настоящие. Та неподвижно лежала на лавке и одними глазами следила за старухой. Вид у неё был жалкий.
Кутепиха извлекла из тряпицы щепотку белого порошка – измолотого корня белены – и насыпала его в ноздри девчонки. Старуха ожидала, что отравленная будет реветь, кататься по полу, биться в судорогах. Но этого ничего не было. Ручонки найдёныша несколько раз беспокойно вздрогнули, лицо исказила гримаса, а затем оно расправилось и застыло навсегда.
Фёдор торопливо пошарил рядом с собой, нащупывая кисет, скрутил цигарку потолще. Едкий табачный дым защипал в носу, забил горло. Вместе с отлетающим дымом уходило из тела напряжение, оставляя противную хлипь в коленях. Мысли вновь вернулись к пережитому.
Деревня пустела, жители перебирались в город, в другие, сытные, по их мнению, края. Те, кто оставались, становились всё менее узнаваемыми, даже чужими. Незнакомыми, серьёзными и вечно дрожащими от холода выглядели дети – из прежних сорванцов не доставало многих, а выживших было не признать. Время такое – не до веселья.
Каждое утро брели они вдоль заборов, без гомона и возни, держа в грязных ручонках чашку да ложку. На деревенской площади под охраной нескольких красноармейцев дымила полевая кухня, из которой давали ребятишкам американскую рисовую кашу с тушенкой.
Впрочем, помощь эта подоспела совсем недавно.
Вдруг рядом раздался то ли шорох, то ли шёпот. Слабый, он чуть слышно шёл из-под земли. На глаза попали пустая скоба погребной крышки и валявшаяся на земле задвижка.
Фёдор заподозрил неладное. Подняв крышку, он долго всматривался и вслушивался в сырую темноту подземелья.
– Эй! Кто там есть – выходи. А то насовсем оставлю, – сказал он негромко, но твёрдо.
И не сразу темнота ответила лёгким шорохом и движением воздуха. Сомнений не осталось.
Фёдор отодвинулся от края, чтобы не служить мишенью:
– Ну, долго я буду ждать?
Из темноты нарисовалась голова:
– Федь, это я – Антошка.
– Ты что, паршивец, здесь делаешь?
Агарков буквально вырвал, схватив за шиворот, из-под земли на свет лунный младшего брата и как следует, встряхнул его.
– Да я, я… – Антошка захныкал, размазывая кулаками по щекам грязь и слёзы.
– Не реви, – тяжёлая рука Фёдора взметнулась над парнишкой, да так и застыла. – Всё матери расскажу, она тебе задаст. А мало, так я всыплю. Воришка несчастный.
В это мгновение другая фигурка выпрыгнула из погребного лаза и, громко шлёпая босыми подошвами, понеслась прочь. Рванулся изо всех сил пленённый Антон, но лишь закрутился на месте, болтаясь как на крюке в железной хватке старшего брата.
– Ах вы, мерзавцы! Ах, воры! – негодовал Фёдор, но на душе у него вдруг повеселело. – Ну, дождёшься ты у меня.
Он подхватил хрупкое тельце подмышку, протащил по огороду в баню, грубовато швырнул его на пол, громко хлопнул дверью и подпёр её снаружи.
Антошка огляделся, привыкая к темноте, и понял, что света проникает ровно столько, сколько надо, чтобы понять, что ничего не видно. Пошарил вокруг себя руками, нащупал каменку, вспомнил, что она, конечно, сажная, и, представив, каким он завтра будет выглядеть, даже хихикнул.
Ни матери, ни старшего брата он, конечно, не боялся: всё угрозы – никакой порки не будет. Не боялся он и ночёвки в тёмной бане. Потому, забравшись на полок, свернулся калачиком, подтянул к груди колени и утопил в них лицо.
От бани огородом Фёдор прошёл к родному дому, поскрёбся у окна.
– Кто? – послышался из сеней испуганный голос.
– Открой, мама.
Она узнала, открыла.
– Чего ты, Федя?
Он взял её жёсткую ладонь, притянул к губам.
– Так…. Не спится.
Наталья Тимофеевна отступила вглубь сеней, разглядывая сына и щуря заспанные глаза.
– Заходи, – сказала она. – С чем пришёл?
Фёдор плотно затворил дверь и сказал в непроглядную тьму:
– Ну, не каяться, конечно.
– Ай-яй-яй! – мать появилась откуда-то сбоку, держа в согнутой руке горящую лучину, – тебе теперь днём-то и дороги нет в родной дом.
Прошли на кухню. Мать подпалила фитиль в плошке с лампадным маслом.
– Есть будешь?
Фёдор мотнул головой. Он стоял, не присаживаясь, готовый уйти немедленно, если мать не прекратит свои насмешки.
Наталья Тимофеевна будто поняла настроение сына, отвернулась, устало махнув рукой:
– Живите, раз сбежались. Сынишка у вас – внучок мой. А баба она дородная, строптивая только, на мужика сильно смахивает, даже усы вроде как пробиваются…. Не бьёт ещё тебя? Ну и, слава Богу. А впрочем, говорят, кто сильно бьёт, тот сильно любит….
Фёдор сдержался.
Полузабытые запахи родного дома вскружили голову, к сердцу подступила тоска по чему-то дорогому и навсегда утерянному. С зимы, с последних похорон он здесь не бывал, хоть и живёт в двух шагах.
Вот и Санька заревела – давно не видела его, не признала, испужалась. Проснувшись, слезла с печи. Они уже с матерью наговорились, напились чуть тёплого чаю. Тянет Фёдор её к себе, а она руки прячет за спину, загораживается, как от вора. Коротка память у людей.
Санька – неловкая, застенчивая девчонка-переросток – и ключицы-то, и локти у неё выпирают, и сутулится она – не знает куда руки деть. И ноги у неё длиннющие, тощие, словно две жердины. А всё ж для матери, для родного брата мила она и привлекательна. Оба с нежностью смотрят на неё, любуются.
Уходя, Фёдор спросил, где Антон.
– На сеновале спит. Все коленки сбил, места живого нет – непоседа, – говорила мать, стоя у порога.
Бредя огородом, Фёдор думал о том, что и он в Антошкины годы не мало обтряс соседских яблонь, опорожнил чужих кринок от молока из колодца. Но тогда было другое время, и только добрая порка грозила в случае неудачи. Теперь народ озлобился: убить воришку – плёвое дело. Надо будет всерьёз поговорить с братом. И хорошо, что матери не сказал.
Дома прислушался к спокойному дыханию жены. Сын, Витюшка, перевернулся на живот и сдавленно всхлипнул. Фёдор подоткнул ему под бок одеяло.
«Тебя бы, сынок, миновало нынешнее лихолетье», – молитвенно пожелал он малышу то, что желал каждую ночь. – «Спи и просыпайся без страха». Тихо улёгся на кровать с открытыми глазами, закинув руки за голову.
Небо за окном посерело.
В эту голодную зиму у старухи Кутепихи появилась новая причуда – она перестала есть днём. На все уговоры Фенечки, отрицательно качала головой и повторяла:
– Не хочу, доченька, спасибо.
Отложив кусок, другой, она подкреплялась ночью, таясь от посторонних. Ну, а Фенечка думала, что бабка живёт святым духом и твёрдо в это верила. Фёдору недосуг было до чужих прихотей, а когда привязалась эта бессонница, то старухина хитрость перестала быть для него секретом.
В эту ночь голод поднял Кутепиху далеко за полночь. От распахнутого погреба она приковыляла к запёртой бане и наткнулась на спящего мальчишку. Долго, согнувшись, обнюхивала и ощупывала его, но так и не признала. Антошка жалобно вздыхал во сне, его удлинённое личико было утомлённым.
Вернувшись в избу, Кутепиха прежде всего посмотрела правнучонка. Взгляд её был добр и близорук. Фенечка спала одна, раскинувшись на всю кровать, на белом лице выделялись почерневшие веки.
Старуха забралась на печку, но сухие глаза её долго смотрели в щель занавески.
Темнота рассеялась. С неба незаметно опустился туман, приник к земле так, что близкий лес, утонул в нём по пояс. Проснулись птицы. Солнце, поднявшееся за далёким горизонтом, разбудило ветер, и тот разорвал туман на клочья, унёс вдаль.
Фёдор растолкал заспавшегося Антошку. Вид мальчика был не просто утомлённый, напуганный, а даже какой-то болезненный. Под глаза глубоко легли синие круги, на щеках размазана грязь, под носом присох белый налёт, а в уголке рта поблёскивала слюна. Младший брат выглядел настолько несчастным, что Фёдор воздержался от готовых упрёков, проворчал только:







