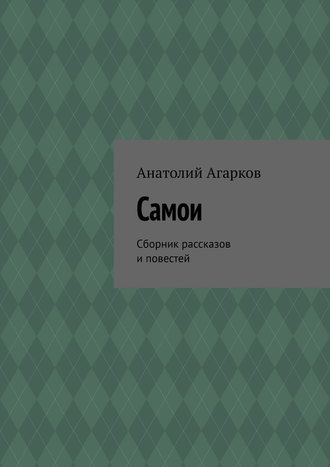
Анатолий Агарков
Самои. Сборник рассказов и повестей
Колчаковщина
Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно,
если бы борьба предпринималась только под
условием непогрешимо благоприятных шансов.
(К. Маркс)
Хмурым февральским вечером 1919 года в Табыньшу въехал конно-санный казачий отряд. Копыта гулко отбивали дробь, полозья пронзительно визжали слежавшимся снегом. Расположились в центре у коновязи, выставили охрану и по двое, по трое двинулись в обход по избам.
Вошли с мороза в тепло Кутеповской избушки, торопливо и сильно хлопнув дверью так, что где-то под матицей ухнуло, и к спёртому воздуху жилья подмешался тонкий запах трухлявой древесной пыли. Огляделись в неярком свете керосиновой лампы.
Ладная собой, но в рваной, лёгкой одежонке девушка испуганно подскочила из-за стола, широко раскрытыми глазами молча озирала казаков. Один из вошедших был могуч – грудь дугой, подпёрта животом. Другой – мрачноватый и раздражительный, с длинным морщинистым лицом, на выпиравших скулах синели оспины.
– Добрый вечер, хозяева, – рявкнул он. – Мужики в доме есть?
В углу что-то зашуршало, выпрыгнул чёрный котёнок. На русской печи шевельнулась чёрная занавеска. Выделяясь белым лицом, на пол сползла старуха в подшитых валенках под длинной ситцевой юбкой. Глаза прищурены, платок сполз, из волос выпала на плечо гребёнка, и седая прядь повисла вдоль шеи. Старуха как-то осторожно дышала.
Не дожидаясь ответа, мрачный казак оборотился к вешалке, потом, приподняв занавеску, заглянул на печь, повертел головой туда-сюда, оглянулся на товарища и недоумённо пожал плечами.
Тот подступился с расспросами:
– Вдвоём что ль живёте, мать?
Старуха уже прошествовала через избу, оттёрла девушку в угол и села на лавку, выложив на столе сухие желтоватые руки.
– Вдвоём…. С внучкой Фенечкой, – шепелявый голос её был похож на сдержанный смешок, и глаза светились покоем и любопытством человека, у которого даже разбойник ничего не отымет, потому что ничего и нет.
– Внучка не обижая? – оглаживая девушку прилипчивым взором, спросил грудастый.
– Слава Богу. Вот ухаживает за мной, – старуха ласково поднесла увядшую слабую руку к густым Фенечкиным волосам.
Ну, пошли… чего тут. Всё ясно, – заторопился мрачный и, шагнув в тёмные сени, оставил открытой дверь.
Холодный воздух волной пошёл понизу. Грудастый, с сожалением взглянув на девушку, вышел.
– Чегой-то они, баб, а? Мужики им понадобились… – голос у Фенечки был грудной, сильный и напевный, в такой тональности мать баюкает ребёнка, иль жена ворчит на любимого супруга.
Старуха Кутепова с малолетства пестовала внучку – сложил голову на японской зять, а дочь в том же году душу отдала, застудившись насмерть. Теперь, когда девка заневестилась, а собственные хвори иссушили тело и болезненно обострили чувство одиночества, бабка безошибочно подмечала любой порыв молодой души и обидой на неблагодарность её питала собственное самолюбие.
– Так ить, война мужиков повыбивала – новых подавай, – недавний сон её будто рукой сняло, и теперь она (Фенечка по опыту знала) будет сидеть в одной позе, чуть раскачиваясь, тараща глаза в полумрак, изредка роняя фразу, будто подводя итог долгим умозаключениям.
– Вот и Федьку тваво заберут, – спустя некоторое время, выговорила она.
– Федьку? – Фенечка опустила на колени вязание, – Федьку? Так ему, поди, ж рано ещё. А, баб?
Но старуха не горазда была на скорые ответы. Девушка взглянула на неё раз, другой, заёрзала на лавке, запоглядывала на окно и вдруг, бросив на стол клубок со спицами, сорвалась к печи, сверкнула крепкими икрами, доставая валенки и шубейку.
– Баб, я щас, – зажав в руке платок, выскочила из избы.
Их развалюха и крепкое хозяйство Агарковых примыкали задами. Утоптанной в снегу тропкою, мимо колодца на меже, в заднюю калитку с накидным лозовым кольцом на столбике, и вот она уже во дворе, под заледенелым и чуть блестевшим от внутреннего света окном. Фенечка ощупью пробралась тёмными сенями, поставленными позднее, вприруб к большому дому (оттого и сохранились высокие ступени, ведущие в избу), потянула дверь за скобу.
Просёдая голова на жилистой шее повернулась к порогу, карие глаза пытливо вглядывались в вошедшую. Глава семьи Кузьма Васильевич Агарков ладил заплату на детский валенок, сильные мозолистые ладони перепачканы дёгтем, и его запах густо наполнял кухню.
– Дядя Кузьма, казаки по избам мужиков ловят, в колчаковщину забирают, – еле переведя дух, выпалила девушка.
Фенечку в этом доме не любили. Кузьма ругал за неё старшего сына последними словами. Федька грозился уйти из дома. Мать, Наталья Тимофеевна, плакала и кляла за «присуху» колдунью Кутепиху. Девчонки жалели Федьку и мать и верили в справедливость отца. Всё это с удовольствием рассказывала четырёхлетняя болтушка Нюша. Фенечку обижало не презрение к её бедности, а неверие в её трудолюбие, хозяйскую сметку.
На её голос в дверях горницы показались девичьи головки – одна, другая, третья,.. не сочтёшь, мал-мала меньше, глазёнки горят любопытством, губы кривятся усмешками. С печи свесилась чубатая Федькина голова, а следом восьмилетний Антон высунулся из-под руки. После звучных шлепков девчоночьи головы пропали, а из горницы – живот вперёд – утицей выплыла беременная Наталья Агаркова. Быстрый и тревожный взгляд на Фенечку, Федьку, мужа. Тот пожал плечами, нервно покусал губы и сказал:
– Ну-ка, сынок, быстро собирайся…. Отсидишься, где пока… Можа в хлеву…. От греха.
Федька мигом свесил с печи босые ноги, но, передумав, скрылся за занавеской и, громко пыхтя, лёжа одевался. На пол он спрыгнул уже собранный по-уличному, только без шапки, и скрёб пятернёй в затылке, вспоминая, куда её закинул.
Во дворе послышались злобное собачье повизгивание, чужие тяжёлые шаги. Вошли трое и среди них грудастый.
– Ага, готов уже, – схватил он Федьку за ворот полушубка, – Ну, пойдём, пойдём, солдатик.
– И ты здесь, краля, – он повернул голову к Фенечке, – Жениха провожаешь?
Пьяно подмигнул, будто приглашая её за собой в тёмные сени. И Фенечка пошла, и лишь дверь заслонила свет избы, попала в тяжёлые объятия казака. Мокрый рот впился в её губы. От усов пахло табаком, луком и ещё чем-то противным, отчего у девушки перехватило дыхание.
Федька, почуяв свободу, выскользнул во двор и через распахнутую калитку – на огород.
Казак, не сразу сообразив, оттолкнул девицу и, набычившись, ринулся на мороз. Резко грохнул выстрел, зашуршав, ухнул снег с крыши. Через минуту, остервенело ругаясь и отряхиваясь на ходу, в избу мимо сжавшейся в тёмном углу Фенечки протопал грудастый.
Кузьма, загородясь рукой, пятился от не прошенных гостей:
– Меня и в германскую не брали… многодетный я. На кого оставлю?
И Наталья вторила ему, заслонив собой вход в горницу:
– Какой он солдат? Больной весь. И как я одна с такой оравой?
Казаки хмуро подступали:
– Наше дело телячье. Там разберутся. Разберутся и можа отпустят.
Грудастый, ворвавшись, растолкал товарищей и ударом кулака сшиб Кузьму на пол.
– Да чего вы тут сопли развесили? Вяжи его. Тот убёг, сучонок. Ну, Бог даст, недалеко.
Падая, Кузьма сбил подвешенную лампу, и она, пыхнув голубоватым пламенем, потухла, погрузив избу в темноту. На полу, пыхтя и ругаясь, возились мужчины, в горнице плакали девчонки, голосила Наталья. И слыша, что Кузьму волокут к дверям, крикнула:
– Хоть одеться дайте человеку, ироды-ы!
Мужиков увезли в ночь. А на утро пришёл слушок, что в петровской церкви будет молебен, а потом общая отправка на фронт.
Управившись по хозяйству, Наталья засобиралась в дорогу. Контуженый австриец Иоганн Штольц заложил в ходок Меренка. День по всем приметам обещался быть погожим.
Когда выезжали, туманом крылся горизонт, а в Петровке были – солнце круто ползло в зенит, умудряясь и в добрый мороз давить с крыш сосули. Над церковным куполом галочий грай, а перед ней на площади толпится народ.
Да где же мой-то, потеряно думала Наталья, встречая знакомые и незнакомые лица. И увидала. В чёрной овчине – укороченном тулупе, в собачей шапке стоял её Кузьма Васильевич, лицо бледное, узкое, по щекам вниз две длинные морщины, а серые глаза печальны и растеряны.
Обнялись, трижды накрест расцеловались.
«Бабы… – думал Кузьма, вглядываясь в дорогие черты Натальиного лица. – В сердце каждой скребутся заботы о доме, о своих мужиках, детях, скотине. И какая из потерь горше, кто знает? С бедой, говорят, нужно ночь переспать, а там отхлынет».
– Федька-то? – переспросила Наталья и махнула рукой куда-то в сторону, – Убёг…. И мне не кажется.
– Ты, мать, сильно-то не надрывайся. Нажили хозяйство и ещё наживём, было бы здоровье. Детей береги, а пуще этого, – он коснулся ладонью её выпирающего живота. – Мальчишка будет – кормилец твой до самой смерти.
Разговор не слагался, и затянувшееся прощание становилось в тягость.
В соседнем дворе ладная бабёнка шустро управлялась по хозяйству, то и дело оголяя белые икры. Она вылила из бадьи тёмную, исходящую паром бурду. Два поросёнка, оттирая друг друга, тыкались носами в корыто, громко чавкая, вокруг суетливо вертелись куры.
Проследив мужнин взгляд, Наталья ревниво дёрнула его за рукав:
– Ты что, поросят никогда не видывал?
Кузьма грустно усмехнулся своим мыслям.
Кликнули сбор, заголосили бабы. И от белой церковной стены покатила судьба Кузьму Агаркова навстречу войне.
В челябинских казармах новобранцев сводили в баню, переодели в солдатское обмундирование. Потом пошла муштра. День за днём, в мороз ли, в пургу, гоняли их по плацу – учили ходить строем, петь хором, стрелять из винтовки, колоть штыком.
Вечерами, лёжа на хрустящем соломой тюфяке, Кузьма вспоминал Натальино пастельное бельё, которое стирала она в корыте, на ребристой доске, раскатывала рубелем, намотав на большую скалку, и отглаживала утюгом, разогретым древесным углём, и, когда стелила потом, обычно после баньки, оно хрустело, пахло летним садом или свежестью изморози.
С женой ему бесспорно повезло. Когда двадцати с небольшим годов выходил на самостоятельную дорогу, брал её, как кота в мешке, по одной приглядке да с чужих слов, что «работящая и негулящая». И приятно был удивлён, увидев, как безропотно, без понуканий впряглась она в тяжёлый воз быстрорастущего хозяйства.
Начинали, как говорится, ни кола, ни двора. И вот уже красуется на всю деревню большой дом, как игрушка. К нему – три амбара с хлебом, двенадцать лошадей и прочая всякая крестьянская живность и утварь. Меж трудов родили десятерых детей. Старший – Федька – в хозяйских делах уже полный мужик, и девчонки сызмальства к труду приучены.
В пятнадцатом году пристал к семейству Агарковых пленный австрияк Ванька Штольц, контуженный на фронте, не помнящий ни родства, ни Родины. В делах нетороплив, но силён и вынослив, как бык.
Крестьянский труд тяжек, а глаза у Кузьмы Агаркова завидущие. Своей земли мало, так присмотрел до двадцати десятин у казаков за двадцать с лишним вёрст. В страду вставали с первыми петухами и, громыхая телегами по спящей деревне, отправлялись на арендованный клин. До полудня жали, вязали снопы и, нагрузив возы, отправлялись домой. И так изо дня в день, изо дня в день. Каторжный труд! Тяжело будет Наталье одной.
Кузьма ворочался, вздыхал, невесёлые думы переполняли голову.
Как странно устроен мир – дома дел невпроворот, и вроде бы все срочные, боишься истратить лишний час на что-нибудь, но едва уезжаешь куда-нибудь, как всё отодвигается, теряет свою значимость, а, вернувшись, обнаруживаешь, что ничего особенного не произошло, неотложное спокойно ждало его возвращения.
С этим, успокоенный, и засыпал.
Казарменная жизнь оборвалась неожиданно. Запихнули новобранцев в теплушки и повезли на запад, на фронт. Проехали горы, поезд несся по равнине, отстукивая вёрсты и время. Иногда обрушивался встречный грохот, и снова возвращался привычный, казавшийся тихим, перестук под вагоном. Потеряли счёт вокзалам.
Высадились ночью на безлюдном полустанке, сразу же в сани и обозом через лес. Он сжимал дорогу с двух сторон – тёмный, мягко опушенный снегом, беззвучно падавшим с ветвей от малейшего дуновения. Из сугробов чёрными прутьями торчали промёрзшие до хруста кусты. Мороз крепчал. В чистом чёрном небе дрожал яркий звёздный свет, и большая белая луна в радужных кольцах спокойно плыла над землёй.
Обоз ехал всё дальше и дальше.
За полночь остановились на роздых в мордовском селении. Разбрелись по избам, приказали хозяевам накрыть на стол. Сели вечерять.
Втянув носом воздух из жестяной кружки, Кузьма ощутил мерзкий запах самогона, от которого дёрнулся кадык, и с отвращением подумал, как трудно будет одолеть это пойло.
– Пей, пей, не косороться, – сипло сказал солдат, нарезая сало большими ломтями и складывая их в центр стола, где уже лежали кучкой маленькие луковицы и длинные, пустые внутри солёные огурцы, варёные яйца.
Все остальные новобранцы, торопливо жуя, с нетерпением смотрели на единственную кружку незатейливого застолья. Хозяева попрятались по своим норам. Разморенные усталостью, теплом, едой и выпивкой, солдаты, неторопясь, вполголоса вели беседу.
– Был бы кто свой здесь, убёг бы сейчас, не задумываясь, – говорил сиплый, выпуская изо рта густые клубы табачного дыма и втягивая их носом.
– А я так думаю, – встрял подхмелевший Кузьма, – фронт на восток катится, буду отступать до родных мест, а там и дам дёру.
Хмель, согрев тело, закружил голову. Поглядывая на товарищей, Кузьма чувствовал, как всё больше ему нравятся эти прямодушные мужики, толковые в словах, и крепко, по всему видать, любящие своё крестьянское житьё.
Проснулись засветло. Но не от ярких солнечных лучей, ломящихся в низенькие окна, а от дружной пулемётно-винтовочной пальбы и канонады. За ночь красные окружили село со всех сторон, выкатили на пригорок пушки и теперь прямой наводкой палили по избам.
Наспех одевшись, выскакивали на мороз. Кузьма на мгновенье замер у калитки, прикидывая, где укрыться от дружного посвиста пуль. Беззвучный всплеск короткого белого пламени резанул глаза, что-то с треском хлестануло по воротам, плетню, дробным стуком ударило в бок и швырнуло Кузьму наземь. Вслед обрушился на мир грохот разрыва.
Агарков попытался освободить нелепо подвёрнутую и придавленную телом руку, но конечности уже не слушались его. Он хотел закричать, но голос его сорвался, забулькал в горле и захлебнулся чем-то вязким и солёным. Спустя несколько мгновений чёрная тень навсегда заслонила белый свет от Кузьмова взора.
Отступать до Табыньши оставалось новобранцу Агаркову без малого тысячу вёрст.
Дезертир
Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе.
Лишь бездарный покоряется судьбе.
(А. Кунанбаев)
Лунная серебристая ночь окутывала дрёмой Табыньшу. Избы, вытянувшиеся вдоль берега уснувшего подо льдом озера, глубоко зарылись в снежные сугробы. Мороз крепчал. Тишину изредка прерывал сухой треск плетня и неподвижных тополей, могучими корнями уцепившихся за подмытый водами крутояр. В голубом свете смутно вырисовывались горбатые скирды под белыми покрывалами. Затихли по дворам собаки. Нахолодавшие за день и большие, и малые грелись на полатях, лежанках, кроватях под одеялами, тулупами у жарко натопленных печей.
Федька дрог в сырой кутеповской бане. Он сидел на полу близ очага. От грязи и сырости кожа на руках обветрилась, и они мучительно ныли. С низкого прокопченного потолка изредка капало на голову и за шиворот. Огонь в каменке почти совсем догорел. Последние огоньки перебегали по тлеющим в золе красным углям.
Весь мир заснул. Не спал Федька, поджидая Фенечку. Не спала Фенечка, сидела с шитьём и напряжённо смотрела чёрными глазами, как неторопливо отходит ко сну бабка.
Наконец старуха утихла за пёстрой занавеской на печи. Девушка поднялась и, бесшумными кошачьими движениями снуя по избе, засобиралась на улицу. В старый платок завязала отложенные заранее хлеб, лук, сало. Прислушалась, приставив ухо к самой занавеске, к похрапывающему дыханию на печи и юркнула в сени.
Легко пробежала огородом, нырнула в полумрак бани и бросилась милому на шею:
– Всё боялась, не успею, не застану тебя. Ну, зачем ты уходишь? Останься, казаки ведь уехали.
– Не могу, пойми ты, – волнуясь, Федька стягивал с Фенечки одежду. – Дезертир я теперь. Поймают – сразу шлёпнут. Дома появлюсь, а вдруг кто донесёт, тогда и мамку потянут за укрывательство. Нет, никак нельзя мне в Табыньше оставаться. Пойду в Васильевку, там у нас свои, но меня там не знают. Прикинусь батраком контуженным, как Ванька Штольц, глядишь, и пережду лихое время. Ты и мамке так обскажи.
Ласкал её в последний раз, всё более распаляясь.
– Война кругом идёт, – рассуждала Фенечка, едва переводя дыхание от бесконечных поцелуев, – На дорогах казачьи разъезды. Люди там чужие, может злые. Как встретят? Не ходи, Федь.
Её лицо всегда весёлое, с ямочками на щеках за эти несколько тревожных дней и бессонных ночей побледнело, осунулось, под глазами легла синева. Ещё бы! Сколько было радостных разговоров о будущей общей жизни, своём доме, хозяйстве! А теперь из-за этой проклятой войны, страшных казаков все мечты разлетаются, как испуганные птицы….
А вдруг Федька не вернётся? Что тогда с ней будет?
Федька чувствовал, как немеет рука под Фенечкиной головой, но долго не решался шевельнуться. Он выжидал, оттягивал минуту расставания, с нежностью вглядываясь в её лицо в неверном свете луны. Наконец соскользнул с полка и, осторожно ступая, собрался в дорогу. Он был готов идти, когда услышал её шёпот:
– Провожу тебя за околицу.
Ночь потемнела. На небе мерцали редкие звёзды. Где-то завыла собака, другая ответила ей. Тяжёлое предчувствие сдавило Фенечке сердце.
Остановились.
Хмурый, сдвинув брови, вглядывался Федька в сизую туманную даль, где чернели голые берёзовые рощи. Низкие, редкие серые тучки медленно плыли над пустынной землёй, разгоняя над сугробами лунную тень. За полями, за рощами лес сбивался в сплошной массив и тянулся далеко на юг, как говорили мужики, до самого Троицка-города. Сквозь эти чащи зимой можно ходить только звериными тропами, зная приметы и заговоры. Этими путями ходят и лесные чудища, лешие да кикиморы.
Федька поцеловал в последний раз Фенечку:
– Передай матушке мой низкий поклон. Чести, скажи, своей не обмараю и на Колчака служить не пойду. А буду я в Васильевке, у крёстного её, дядьки Ивана Назарова. Запомнишь?
И резко повернувшись, пошёл целиком, через засыпанное снегом поле.
Федька шёл на закат. Наверное, это была его ошибка, что не выбрал сразу накатанный путь, пошёл глухоманью, опасаясь встречи с казаками. Леса кругом стояли непролазные, густые, поляны похожи одна на другую. Снегу было по колено, а то и по пояс.
Остаток ночи растворился, новый день клонился к закату – жильём и не пахло. По его расчётам где-то за спиной остались и Васильевка, и Мордвиновка, но он шёл вперёд, боясь свернуть и заблудиться.
Вот и закат догорел. Федька совсем потерял направление и брёл из последних сил, повинуясь одному лишь желанию – идти там, где легче. Думы безрадостные, порой нелепые осаждали голову.
Он представлял себя нищим – искателем правды. Вот он ходит по дворам и неторопливыми умными речами раскрывает людям глаза на житьё-бытьё, и кормится чужой милостью. Нет у него большого дома с отцом, матерью, нет брата и сестёр – всё улетело, как подхваченный ветром пучок соломы.
Вскоре наступила ночь и всё затянула густой паутиной. Багровая луна стала медленно подниматься из-за деревьев. Тихо в дремучем зимнем лесу. Лишь изредка – треск мороза в стволах да шорох упавшей с ветки снежной шапки. Жуткий страх схватил за горло Федькину душу. Где, под каким кустом окончится его жизненный путь? У какой берёзы найдут по лету грибники его бездыханное тело? Или, быть может, волки растащат по косточкам?
Мороз гнал из тела усталость, и Федька всё шёл и шёл вперёд, теряя счёт времени и вёрстам. И вдруг….
На глухой лесной полянке среди наваленного грудами хвороста поблёскивал небольшой костёр. Два мужских голоса задушевно выводили «Лучину».
В паузе кто-то сердито проворчал:
– Распелись не к добру.
– Чем песня плоха?
– Ну, как услышат.
– Кто ж сюда доберётся – в глушь да лихомань?
– Всё одно – какое нынче пение….
– А почему не петь?
– У меня вон в брюхе с голоду поёт, – не уступал сердитый молодой голос.
– Ишь ты, – у костра засмеялись, – шти про тебя ещё не сварены.
– Ничего, – покрыл всех спокойный бас, – Как закипит вода, муки сыпанём – болтушки похлебаем. Жаль только соли нет.
– Да и муки-то последняя горсть….
Разговоры разом оборвались, когда Федька вышел на свет костра. Вокруг него сидели четыре молодца – из тех, кому ни мороз, ни снег, ни метель-пурга, ни ведьмино заклятье – всё нипочём. На жару в глиняном горшке готовили похлёбку, а теперь рассматривали подошедшего невесть откуда парня. Федька – роста вышесреднего, статный и широкоплечий, со спокойным видом и прямым взглядом стоял перед ними.
Молодой голос хмыкнул:
– Вот и мяско подвалило.
Высокий и тощий, строго зыркнув на приятеля, знакомым уже баском спросил:
– Из далёка будешь?
– Из Табыньши. Не найдётся ли у вас, люди добрые, места у огня? Замороченный я.
– В таком лесу – плёвое дело, – согласился другой, низкий и круглый, жмуря красные слезящиеся глаза.
– Мне бы поесть чего….
– Ладно. Садись к костру. Может и для тебя чего найдётся.
Федька подсел к огню, где на жару шипел закоптелый глиняный горшок.
– Чего варим?
– Али не видишь?
Представились.
Новые знакомцы назывались чудными какими-то именами-кличками. Басовитый сказался Попом, толстяк – Душегубом, молодой верзила – Мальком. Все по виду и разговору – городские. И лишь четвёртый, угрюмого вида, заросший волосами по самые глаза, деревенского склада мужик – Иваном Тимофеичем.
В разговорах не таились, и вскоре Федька к страху своему убедился, что перед ним не самые добрые люди, которых можно встретить ночью в такой глухомани. Но отступать было поздно, да и некуда. И чтобы уравняться с ними в грехах перед законом, рассказал о себе.
– Ну, Агарыч, видать, с нами тебе дорога, – участливо покачал головой Поп.
Мороз усиливался, лёгкая снежная пыль закуржавилась над землёй и засыпала сидящих. Федька протянул озябшие ладони к огню и немигающими глазами смотрел на перебегающие по сухим сучьям языки костра. В лесу было тихо, и можно не спеша вести беседу.
Поп неторопливым баском своим уговаривал товарищей податься в Челябу, где и затеряться проще в толпе и сытней, должно быть, жить вёрткому человеку. Впрочем, ему никто не возражал, только мрачный Иван Тимофеич всё отрицательно иль осудительно покачивал головой, но молчал.
Прошла половина ночи.
Усталость брала своё. Глаза у Федьки начали слипаться, незаметно подкрадывался сон. Полная яркая луна светила с беззвёздного неба. Быстро плыли облака. Словно зацепившись за острый край, они закрывали её на мгновение и летели снова дальше.
Иван Тимофеич озабоченно покачал головой:
– Скоро пурга будет.
– Метель поднимется, – подтвердил Душегуб.
– Пурга нам на руку, – сказал Поп. – В деревне-то нас и не приметят.
И поднял на Федьку пытливый взгляд:
– С нами пойдёшь или здесь заночуешь? Хотя мы, может, и не вернёмся сюда снова.
Федька Агарков по разговорам бродяг понял, что замышляют они какое-то тёмное дельце, ему было до слабости страшно, но он всё-таки решительно сказал:
– С вами пойду.
– А топор в руках держать умеешь иль у мамки под юбкой рос? – с насмешкой спросил Малёк, разминая затёкшие ноги вокруг костра.
Облака закрывали луну, и лес тогда сразу погружался в сумрак. Бродяги гуськом медленно продвигались вперёд, держась ближе друг к другу, ступая след в след. Шли, по колено проваливаясь в слабонастный снег.
Пурга разыгралась внезапно. Лес вдали начал гудеть, посыпался снег с верхушек деревьев. Ветер принёсся с пронзительным свистом, подхватывал и уносил вороха снега и снова подкидывал. Вскоре отовсюду уже слышался непрерывный гул, скрип, треск ломающихся веток, и порой – грохот падающих стволов.
– Не отстава – ай! – кричал Поп.
Идти становилось всё труднее. Колючий снег бил и обжигал лицо. Ветер захватывал дыхание.
– Эй, Малёк!.. Агарыч!.. Не отставай! – глухо доносились перекликающиеся голоса.
Бродяги шли долго, упорно пробиваясь сквозь бурю, боясь отстать. Знали, что гибель ждёт того, кто затеряется в дремучем лесу.
Наконец передовой Иван Тимофеич сказал:
– А теперь – тихо: Перевесное рядом.
Перевесное? Так вот он где заплутал, думал Федька. В сторону упорол от Васильевки-то….
Бродяги остановились на опушке леса, напряжённо всматриваясь. Впереди копнами чернели избы, повеяло жилым духом. Поп, притушив бас, отдавал приказания. Бродяги внимательно слушали его, кивая головами, потом стали крадучись пробираться к огородам.
Федьку оставили у плетня, наказав дать знак в случае чего. У него от страха и возбуждения тряслись руки, и, оставшись один, он готов был бежать в ближайший дом поднять хозяев, остановить святотатство, но не побежал, а с нетерпением поджидал бродяг, волнуясь за их успех. Азарт риска гнал холод, и Федька терпеливо томился у плетня, врастая в сугроб.
Появились бродяги, тяжело дыша. На спине у Малька громоздилась овечья туша, широко раскачивая надрезанной головой, оставляя за собой кровавый след.
– Скорее в лес! – хрипел Поп. – Уносим ноги, пока всё спокойно. Скорей, соколики, скорей!
Вьюга усиливалась. Метель непрерывно заметала следы снегом. В её тягучем завывании порой чудился, накатываясь сзади, собачий лай. Бродяги спешили уйти подальше от Перевесного, и с ними вместе Федька Агарков, у которого ещё кружилась голова от сосущего душу страха за совершённое преступление, но уже родилось и постепенно крепло «будь, что будет», и он уже не боялся запачкаться в крови, неся баранью тушу, когда наступала тому очередь.
Буря бушевала трое суток, не переставая. Ветер то вдруг утихал, беря передышку, то вновь усиливался, гудел в вершинах деревьев, в проводах столбов вдоль дорог, наносил вороха лёгкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагромождённые сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах пушистые холмы. Сплошное белое покрывало задёрнуло начавшие было чернеть впредверье весны поля с низкими кустарниками.
Всё живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся стихии. Горе бездомному человеку! Не приведи Господь, очутится об эту пору без тепла и крыши над головой. Немало по весне откроется из-под снега замёрзших одиноких путников – «подснежников».
Но Федьке с товарищами повезло – в тот самый час, когда пурга утихла совсем, входили они на окраину Челябинска.
Вольготная городская жизнь для Федьки Агаркова была недолгой – на вокзале в облаве потерял своих друзей, а сам угодил в «каталажку». Допрашивал его следователь, аккуратный такой, чиновного вида человек с большими залысинами и выпуклым лбом. Несколько недель Советской власти в Челябинске вытрясли из него нестойкие политические убеждения, и он без душевной борьбы и сомнений принял нейтралитет, готов был предложить свои услуги любому режиму.
Знатоком дела считал себя не зря. И, ловя убегающий Федькин взгляд, слушая его сбивающуюся речь, думал: «Врёт, каналья, всё врёт, от первого слова до последнего. Да ну я сейчас его достану».
– Всё-всё так, я верю, готов поверить, но бездоказательно, – следователь поднялся из-за стола, прошёл по комнате, достал из массивного тёмного шкафа пухлую папку подшитых бумаг, – А вот послушай, парень, теперь гольную правду о себе – мы-то всё знаем, и записано тут….
Он полистал документы чьего-то уголовного дела.
– Фёдор Конев…. Смотри-ка, даже имя не изменил – наглеешь, брат. Кличка – Саван. От роду – девятнадцати лет, роста вышесреднего, глаза голубые, черноволосый, особых примет нет…. Нет, есть – нос сломан в драке и смещён вправо.
Следователь делал вид, что читает это с подшитого в папке листа, на самом деле рисовал Федькин портрет, насмешливо приглядываясь к нему.
– Вот так-то, братец Саван…. И всё это мне не придётся доказывать. Я только пошлю запрос в твою деревню…. Как ты её назвал? Воздвиженка? И если от тебя откажутся, то трибунал и «вышка» тебе обеспечены.
– Ты только послушай, что за тобою пишется, – он с удовольствием, сохраняя, однако, участливый вид, измывался над растерявшимся Федькой, – Грабеж,… грабёж. Ай-яй-яй! Убийство. Старуху-проценщицу со родственницей топором. Ну, что скажешь, Саван, или как там тебя?..
Когда за Федькой закрылась дверь, следователь не спеша прибрался на столе и, покрутив ручку телефона, связался с гарнизонной тюрьмой.
– Ваш, вашего сада фрукт, – убеждал он кого-то скучным голосом, – Дезертир. Нет не политический – деревня дремучая. У меня на таких нюх.
В тот же день Федьку перевезли в гарнизонную тюрьму и поместили в одиночную камеру.
Первым знакомцем на новом месте был надзиратель Прокопыч – пожилой, неторопливый, вымуштрованный, наверное, ещё в Алесандроские времена. Большой нос с горбинкою придавал хищное выражение его худому, костлявому лицу. Из-под нависших густых бровей смотрели мрачные, тёмные, глубоко сидящие глаза. Он часто проводил по густой, чёрной с проседью бороде узловатой сухой рукой.
Прокопыч дважды в день приносил Федьке еду и, усаживаясь на единственном в помещении табурете, подолгу беседовал с арестантом.
– Привезли тебя, паря, с почестью на санях-розвальнях, крытых коврами, на тройке с бубенцами, а шлёпнут тихо и похоронят без музыки. Может даже и без суда-трибунала, потому что дезертир ты, и для таких закон суровый.
Федька в общей камере уголовной тюрьмы кое-чему нахватался у блатных и, похлебав баланды, скрестя ноги, сидел на нарах, посвистывал и усмехался.
– Нет, дядя, я удачливый. Помилуют. А не захотят, так сбегу. К тебе приду.… в примаки. Нет ли у тебя, дядя, дочки-красы? Я бы запросто женился.
– Что-то, сынок, лицо мне твоё больно знакомо, будто напоминает кого, – с каждым днём всё больше жалел Федьку надзиратель.
И тот рассказал о себе всё без утайки, распахнул страдающую душу до самых глубин.
– Есть у меня знакомцы в твоих краях. Я вот мамке твоей весточку подам – может, и дождёшься, – пообещал Прокопыч.
Суд и расстрел к Федьке не спешили. За узким зарешёченным окном, недосягаемо светившемся под самым потолком, жизнь, между тем, шла безостановочно. День сменялся ночью и наоборот.
Однажды в сумерках поднялся ветер, и повалил густой снег. Завыла метель, задребезжали жалобно стёкла. А потом переменившийся ветер повеял теплом. Остаток ночи и всё утро, не переставая, шёл сильный дождь, неся скорый конец снегам. Наступившая внезапно ростепель затопила мир грязью.
Об эту пору в Челябинск добралась Наталья Тимофеевна. Срок беременности её был на исходе, она рисковала разродиться где-нибудь в дороге, но желание видеть сына, утешить и, может быть, помочь было всесильным.







