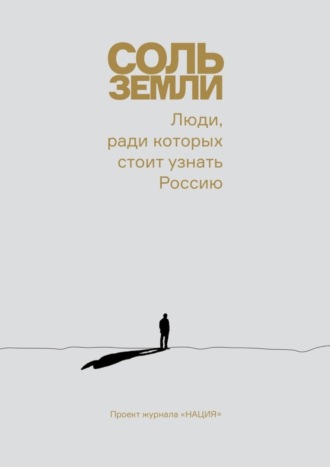
Яна Тищенко
Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию
«Мы просто забыли закрыть калитку, и это стало моментом рождения музея»
Создатель Музея чак-чака в Казани Дмитрий Полосин – о том, как свадебное лакомство может стать делом всей твоей жизни и магнитом для туристов.
В 2014 году супруги Дмитрий и Раушания Полосины открыли в Казани Музей чак-чака – купеческий дом, в котором воссоздали атмосферу традиционного татарского быта. Музей, один из первых частных в Казани, довольно скоро стал любимым местом туристов. Мы поговорили с Дмитрием о том, как, рассказывая историю одного блюда, можно познакомить гостей с вековыми традициями большого народа.
– Музей – это наше совместное с Раушанией детище. Вместе задумывали этот проект, вместе делаем. Я родом из Пензы, но долгое время работал в Москве в автомобильном бизнесе, жена – тоже. В 2008 году случился мировой кризис, и обе наши компании закрылись. Но что важнее, случился и кризис личный: надоело быть наемным работником, захотелось создать что-то свое, что-то интересное и стоящее.

Супруги Дмитрий и Раушания Полосины
Мы с Раушанией всегда любили путешествовать, успели пожить в разных городах. В таких поездках приобрели кучу друзей. И когда мы осели в Казани, они стали ездить к нам в гости. Поначалу мы устраивали для друзей простенькие обзорные экскурсии, но постепенно приходили к мысли музея. Окончательно к этому нас подтолкнуло посещение Музея коломенской пастилы. Оказавшись там, поняли: вот оно! Что-то подобное нужно обязательно создать в Казани.
После этого мы два с половиной месяца буквально жили в Ленинской библиотеке в Москве. С утра до ночи штудировали литературу, чтобы найти хоть что-то о чак-чаке и татарском быте. Работники Ленинки каждое утро вывозили нам по тележке книг. Мало того, что связанные с татарской культурой книги не переведены в электронный формат, в них еще и очень мало информации. Татары – достаточно закрытый народ, не особо любят делиться семейной историей. (Знаем это по себе. Я, правда, татарин лишь на четверть, а Раушания – из настоящей татарской семьи.) Поэтому нам приходилось прочитывать две-три книги, чтобы найти в них всего один абзац или даже строчку с упоминанием татарского обряда или блюда.
Чак-чак – самое распространенное национальное угощение, но никак при этом не популяризируется. И мы решили рассказывать о быте и традициях татарского народа, обо всем, что с ним связано, через чак-чак.
На тот момент в Казани работал всего один частный музей. Мы написали бизнес-план, сделали красивую презентацию и отправились в республиканское минкультуры. «Хорошая идея, ребята. Давайте делайте», – сказали нам, и на этом все. В минэкономики сказали, что денег на нецелевой проект выделить не могут, в банках – что это рискованный бизнес, и кредит под него не дадут. Но мы горели своей идеей – и решили рискнуть.
Заняли около 50 тысяч рублей, купили на них все самое необходимое на момент открытия, многое делали своими руками. А со всем остальным нам помогали друзья и просто хорошие люди.
И еще нас очень поддержал туристско-информационный центр Казани. Его руководитель Наталья Абрамович – единственная, кто сразу откликнулся на наше письмо. Она включила нас в информационную карту для гостей города и республики. Второй человек, который нам помог, – помощник президента Татарстана Олеся Балтусова (курирует вопросы сохранения исторического и культурного наследия). Она помогла подобрать нам дом в Старо-Татарской слободе (ул. Парижской Коммуны, 18 а), где мы сейчас и работаем. В XIX веке он принадлежал бакалейщику, купцу второй гильдии Вафе Бигаеву.
Открылись мы… случайно, в сентябре 2014 года. Уже были оформлены интерьеры, написана программа, но все еще хотелось что-нибудь доделать. Мы были внутри музея, а калитку на улицу забыли закрыть. Мимо проходили туристы, зашли и спросили, что это у нас. И мы на них решили испытать свою экскурсию. Им очень понравилось, похвалили нас. Затем зашли новые гости, и мы опять пригласили их на экскурсию. Эти случайные прохожие и дали нам понять, что пора начинать работать. А так-то мы просто забыли закрыть калитку (смеется).
За все шесть лет работы мы ни разу не потратились на рекламу. Все узнают о нас по сарафанному радио.
В туристическом бизнесе есть такой важный показатель – сколько раз человек возвращается в то или иное место. Наш рекорд – некоторые гости приходят к нам по 5—7 раз вместе с родственниками и друзьями. Всего за 6 лет музей посетили 95 тысяч человек. Уверен, было бы и больше, но мы просто упираемся в ограничения по вместимости.
Наш музей – это двухэтажный татарский купеческий дом площадью 200 кв. метров с двумя входами: на мужскую и женскую половины. У нас нет экспонатов в традиционном понимании, нет витрин и ограждений: все предметы можно трогать, брать рассматривать, на мебели можно сидеть. Мы просим гостей снять обувь на входе и приглашаем их в дом как дорогих друзей. Экскурсия длится час. Программа включает чаепитие с тремя сладостями, одна из которых восстановлена нами по старинному забытому рецепту.
Это теперь чак-чак стал просто угощением к чаю, а испокон веков он был обрядовым свадебным и праздничным блюдом. Хлебозаводы адаптировали рецепт под массовое производство, но фабричное тесто, конечно, никогда не сравнится с ручной работой. Правда, и сейчас чак-чак по-прежнему выносят на любой свадьбе в Татарстане, даже не у татар, как символ приверженности традициям. Желают, чтобы семья была крепкая, как чак-чак, и большая, как число кусочков в нем.
Мы в музее делаем чак-чак вручную, и он получается мягким и воздушным, но при этом остается крепким, не разваливается. Рецепт очень простой: мука, яйцо, соль, немного соды, тесто жарится в масле и перемешивается с медово-сахарным сиропом. Традиционный чак-чак украшают узорной татарской пастилой. Есть совсем старинный рецепт, один из этнографов писал, что его могли позволить себе самые богатые татары. Это чак-чак из обжаренного миндаля в медовом сиропе, богато украшенный пастилой. Безумно дорогое выходило кушанье.
У нас много аутентичных предметов татарского быта. Вот казан с полукруглым дном, он вмуровывался в печь и топился отдельно. Вот старинные сундуки. Но самое большое впечатление на современных детей производит патефон. Девайс, который работает совсем без электричества (смеется).
А вот, напротив, очень современный экспонат – чак-чак, побывавший в стратосфере. Ребята из республиканского Фонда поддержки предпринимателей сделали нам такой подарок: на геозонде подняли капсулу с чак-чаком на высоту 30 километров.
Что бы я мог сказать тем, кто решится пойти по нашему пути? Если вы хотите открыть музей, чтобы просто заработать денег, лучше сразу откажитесь от этой идеи. Музеи – не та сфера, где можно обогатиться.
Но самое главное: если решили открыть музей, ничего не бойтесь, не ищите подводные камни, берите и делайте. Если постоянно на кого-то оглядываться, к кому-то прислушиваться, переживать, откуда брать деньги, вы никогда не начнете работать. Считаете, что это дело вашей жизни? Нужно просто воплощать его и ни о чем другом не думать.
Автор Виктория Сафронова / фото из архива героя
Как спасали львенка Симбу и другие удивительные истории из практики доктора Даллакяна
К нему в Челябинск со всей России везут на лечение диких животных.
Карен Даллакян, пожалуй, самый известный российский ветеринар, спасающий диких животных. Его пациенты – жертвы курортных фотографов, передвижных зоопарков и цирков шапито. Искалеченных, смертельно больных тигров, львов, пум, леопардов везут к нему в Челябинск (Фонд зоозащиты «Спаси меня» и приют для диких животных-инвалидов) со всей страны. Потому что знают: если ситуация безнадежная, возьмется только Даллакян.
– Я слышала, у вас во время пандемии страшная история приключилась: привезли полумертвого львенка с Кавказа.
– Так мы его сами и привезли. Авиакомпания долго не соглашалась транспортировать львенка, потому что он был в очень тяжелом состоянии, а лететь надо было по сложному маршруту: Махачкала – Москва – Челябинск. В итоге согласились, но только с условием, что я сам полечу и буду лично контролировать загрузку-выгрузку. Он же еще и не в самой Махачкале был, а в 80 километрах от нее, в дагестанском городке Избербаш.

Доктор Даллакян и амурский тигр Гектор
Там было так: сначала некие волонтеры связались с основателем крымского сафари-парка «Тайган» Олегом Зубковым, спросили, может ли он помочь львенку. Олег ответил, что не занимается больными животными, а когда посмотрел фотографии и видео, сказал, что помочь может только Даллакян. Когда они вышли на меня, я понял, что счет идет буквально на дни. И несмотря на пандемию, ограничения и риски, мы решили, что поедем. С покупкой билетов помогла наш друг Юлия Агаева, гендиректор челябинской туркомпании, она еще и полетела с нами вместе. В Избербаше мы увидели страшную картину: львенок действительно был при смерти. Полиция установила, что сначала он «работал» у фотографа в Туапсе. Тот уверял, что передал нормального львенка каким-то людям, которые увезли его в Северную Осетию. Оттуда львенок попал в Чечню, а дальше в Дагестан.
20 марта мы привезли его в Челябинск. Отмыли. И обалдели от количества язв и пролежней. На второй день выяснилось, что у львенка еще и острая кишечная непроходимость. Пришлось экстренно оперировать, он буквально сдувался на глазах. Кишечник был забит кусками тряпок, целлофана, пластиковых поддонов. То есть ему в клетку просто бросали всякий мусор, а он глотал.
Рентген показал переломы бедренных косточек. Сам бы он себе лапы так не сломал. Били тупым предметом. Так фотографы, желая ограничить движения своего «аксессуара для фотосессии», ломают ему лапы. Чтобы животное все время лежало.
– У этой истории счастливый конец?
– История со спасением львенка получилась такой резонансной, что нами заинтересовались международные фонды и доктора из Африки, которые занимаются лечением львов. У нас с ними были онлайн-консультации. Скоро наш львенок встал и сделал несколько шагов. Нам сказали, что терапия правильная, но необходимо ограничить его в движении. Мы посадили Симбу в клетку два на два метра.
Да, полиция установила, что раньше его звали Арчи, но мы с этим именем не согласны, нам оно не нравится. Назвали Симбой. Чтобы у львенка поменялась судьба, чтобы все плохое осталось там, со старым именем, а все хорошее было связано с именем Симба. Мы также знаем, что родился он 15 июня, и именно в день рождения мы впервые разрешили Симбочке побегать по приюту. Знаете, это было похоже на танец, он будто плясал от радости.
Следующий этап спасательной операции – отправка Симбы на историческую родину, в Африку. Страну мы пока не озвучиваем, сейчас идут переговоры. В ближайшее время к нам в Челябинск приедет посол этой страны, он должен своими глазами увидеть спасенное животное. А затем Симба поедет в африканский реабилитационный центр, куда попадают звери, которые не могут быть выпущены в дикую природу.
– Я знаю, что Симба поедет на родину не один.
– Да. Вместе с ним в Африку отправится африканский леопард Ева. Она родилась в передвижном зоопарке год назад, мама убила одного новорожденного, а Еву спасли и в трехдневном возрасте передали нам. Я выходил ее из соски. И вот когда настало время возвращать ее хозяевам, на нас, как манна небесная, свалилась передача «Секретный миллионер» (телеканал «Пятница»). Телевизионщики спросили у нас, чем можно помочь приюту, и я сказал, что главное мое несчастье – это возвращение животного, которое ты выходил, в передвижной «зооад», как я эти зоопарки называю. Тем более в 2020 году вступили в силу поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», согласно которым передвижные и контактные зоопарки уже не имеют права работать. То есть дальнейшая судьба леопарда была бы такая: либо продали бы как вещь, либо отдали дрессировщикам. А те станут заставлять его делать то, что дикое животное делать не должно.
Мы уже собирались объявлять сбор денег, чтобы выкупить Еву, но нам неожиданно помог секретный миллионер. Теперь леопард наш. Но я не коллекционирую животных. Мое дело – вылечить их. Африканские животные должны жить в Африке, и мы решили: где один пассажир, там и два. Повезло, что леопард – девочка, мальчика бы они не взяли. У этого реабилитационного центра есть программа репродукции, и все тесты, которые мы сделали по просьбе африканских коллег, показали, что Еву можно выпускать в дикую природу: все охотничьи инстинкты у нее сохранены. То есть она улучшит популяцию. Единственный минус в том, что людей она принимает за своих. А это одна из главных причин гибели животных – когда они без страха выходят к людям. Поэтому с Евой будут еще работать специалисты африканского центра.
– Благодаря этим поправкам в закон «Об ответственном обращении» (вступили в силу с 1 января 2020 года) звери в России теперь защищены лучше?
– Закон есть, но он не работает. Вроде вот оно, преступление, но людей, которых наказывают, нет. Есть много примеров, когда краснокнижное животные умерло, известен преступник, а уголовное дело не заводят, потому что сложно доказать умысел. В законе все очень поверхностно описано. Вот, например, появляется объявление о продаже филина. Человек нашел птицу, всю в мазуте, он неделю держит ее в ящике, кормит моченым хлебом, а потом выставляет на продажу за три тысячи рублей. Мы делаем контрольный закуп под камеру, изымаем филина. Спасти, к сожалению, не получилось, птица был отравлена нефтепродуктами. А полиция говорит: «Не было умысла!» Так вот же он, умысел – продажа за три тысячи рублей! Человек ненадлежащим образом содержал филина, не обратился за помощью ветеринаров, вместо этого выставил на продажу. Но уголовного дела нет.
За животных должно отвечать государство. И это как раз есть в новых поправках в Конституцию. Я уверен, что когда основной документ страны будет иметь такой пункт, то под него однозначно будут меняться и законы, которые принимались на коленке просто под давлением зоозащитников. А пока за судьбу филина, львенка, леопарда не отвечает конкретный чиновник, мы будем получать вот такие вопиющие ситуации. (30 июня в Дагестане все-таки было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с львенком Симбой. – «Нация»).
– Насколько сложно лечить диких животных с их огромными зубами и когтями? Или они понимают, что вы их спасаете, и не причиняют вам вред?
– Это очень опасные пациенты. А главное, злопамятные. В приюте есть тигр, которого мы лечили еще совсем маленьким. Я ставил тигру болезненные уколы в суставы, а мой племянник помогал его держать. И вот хотя уже больше года прошло, если мой племянник подходит к его клетке, тигр рычит на него, пытается схватить. И это уже на всю тигриную жизнь он запомнил.
– А почему они на вас тогда не нападают? Уколы же вы ставите.
– А я стараюсь всякими хитростями побеждать. Если делаю уколы, то даю пациентам игрушки грызть. Симбе ставили по шестнадцать уколов в день, то есть шестнадцать раз в день мы делали ему больно. И когда появились первые улучшения, когда он смог двигаться, то стал на меня нападать – защищаться от боли. Я руки спасал от его зубов с помощью мягких игрушек. Ассистент с ним играет, я в этот момент ставлю укол, и Симба всю злость направляет на игрушку. У нас для этого были плюшевые медведи, черная пантера, а еще одна горожанка с сыном принесли в приют игрушечную львицу. Симба очень любит с ней играть.
Лев – это не собака, которая понимает команды, его нельзя привязать и фиксировать за ошейник. Четыре здоровых мужика иногда не могут такую «кошку» удержать.
– Сколько в вашем приюте животных?
– Около 200 домашних: кошки, собаки, куры, козы и 47 диких. У каждого своя история. Самые громкие, резонансные, случаи, кроме Симбы и Евы, – это пума Атос, жертва цирка-шапито (его закрыли в одной клетке с леопардом, два хищника не поделили территорию – Атос потерял лапу), рысь Марыся, жертва браконьеров и халатности надзорных органов (попала в капкан – и тоже осталась без лапы), амурский тигр Гектор – его малышом украли в Оренбурге из передвижного зоопарка из-под мамы-тигрицы, порвав ему при этом связки. Преступник – гражданин Казахстана. Получил 10 месяцев в колонии общего режима и штраф 600 тысяч. Но это за попытку кражи. А то, что он животное оставил инвалидом, ему никак не вменили.
– Как вы себя чувствуете, когда приходится спасать краснокнижное животное? Возможно, «последнего из». Волнение и ответственность усиливаются?
– «Последние из» – это, наверное, как раз амурские тигры, которых осталось всего шестьсот в дикой природе. Не зря лично президент контролирует их сохранение. Да, это огромная ответственность.
– Вы лично скольких амурских тигров спасли?
– Семерых. Пожалуй, самая душещипательная история у тигрицы Ады. Пострадала в цирке тигренком. Девочка с Адой фотографировалась, тигренок зарычал – девочка испугалась и уронила его на бетонный пол. У тигренка серьезное повреждение позвоночника. Мы выходили. Сейчас Ада живет у дрессировщика Цирка Никулина, даже в кино снялась – в фильме «Скорый «Москва – Россия» со Светлаковым.
Лечить – это одно, а есть еще реабилитация. Попробуйте животное держать на соответствующей диете, найти нужные продукты в городе. Но зато потом, когда ты их выходил и выпускаешь, особенно в дикую природу… Вот лебеди – после длительной терапии полетели над озером. Вот рысь, которая попала под машину, через год реабилитации убегает от тебя в лесную чащу. Останавливается, поворачивается и смотрит тебе в глаза, будто бы с благодарностью. И уходит в лес уже навсегда. Когда тебе удается вывести животное из тяжелого состояния – это всегда большая победа.
– Карен, я по-простому спрошу. А вот когда люди такое с животными творят, вам не хочется дать им в морду?
– Конечно, хочется. Но им не в морду надо, им бы другое наказание. И оно уже есть. Всех их не минует божья кара. Где все эти передвижные зоопарки сейчас? Разорились, обанкротились. Коронавирус помог. А они ведь ничего больше не умеют, кроме как мучить зверей, поэтому стали попрошайничать, просить помощи. Но пришло время отдавать долги. Они обязаны сейчас продавать свои машины, свои золотые цепочки, чтобы прокормить зверей. Цирки с животными не запрещают, но к 2022 году для всех цирков, всех зоопарков вводят более жесткие нормативы. И уже сегодня владельцы частных зоопарков объединяются в коалиции и начинают жаловаться, что эти требования невыполнимы, это очень дорого, что во время пандемии они не зарабатывали и вынуждены будут прекратить работать. Пусть прекращают. А если хочешь работать, обеспечь все требуемые условия. Я очень часто как ветеринар бывал за кулисами цирка. Лечил и слонов, и бегемотов – кого только не лечил. Я вам точно скажу: все их болячки от неправильного содержания. Без слез не взглянешь, в каких условиях они там сидят, в этих клетках. Владельцы цирков же никого за кулисы не пускают, а если нанимают местных рабочих на гастролях, то отбирают у них телефоны, чтобы никто ничего не мог снять. Да, на арене – красивая картинка, а что внутри творится – это страшно.
– Кого из своих животных вы не можете забыть? Так что до сих пор комок в горле. Кроме вашего «первенца» Жорика, конечно. (С амурского тигра Жорика, жертвы передвижного зоопарка, Даллакян и начал лечить диких животных десять лет назад. У тигренка буквально сгнила морда, доктор выхаживал его полгода, а когда готов был отдать хозяевам, те сказали, что тигр теперь «некрасивый», зрителям такого не покажешь, и они его усыпят. Тогда Даллакян бросил клич, и челябинцы собрали 150 тысяч рублей. Жорика выкупили, а затем отправили в тайгу, в центр реабилитации диких животных. – «Нация». )
– Они все мне одинаково дороги. Жорик… Лола… Это львица, которая сейчас живет в парке «Тайган». Ее держали на пляже, чтобы завлекать посетителей. С наступлением холодов она стала не нужна, и женщина, которая за ней ухаживала, тайком позвонила нам: «Забирайте, а то усыпят». Мы привели Лолу в порядок, отправили в крымский сафари-парк – и она там стала звездой номер один. Наша Лола обнималась с туристами, облизывала их.
Эти животные обижены людьми, пострадали от людей, но в нашем центре удается вернуть им доверие к хомо сапиенс.
А Жоре сейчас уже одиннадцать лет. Это огромный тигрище, можно сказать, в возрасте уже: они ведь в неволе живут лет двадцать. Никаких невест ему не досталось. Закон такой, что если тигр рожден в неволе, то с дикими тигрицами ему нельзя. Хотя тигрицы приходят к нему в гости. Сделали себе лежбище перед его вольером и общаются через решетку. Я ездил к Жорику недавно, 1 мая, на его день рождения. И он так же плакал и облизывал мне руки, как тогда, когда был еще маленьким котенком. Такие звуки издавал, надо было слышать, этот рык на расстояние семи километров по тайге расходится. Он показал мне, что у тигра есть душа. Его же никто не ласкает сейчас, к нему люди не подходят, только кормят раз в день. Это самец, который никого не признает, живет сам по себе. А тут, простите, приехал какой-то человек, с которым он детство провел. И что? А он плакал. Хотя был голоден, бросил свое мясо и пошел ко мне. Выбрал не еду, а друга-человека. Это о чем-то говорит.
Автор Дарья Максимович / фото Кристины Высоцкой


