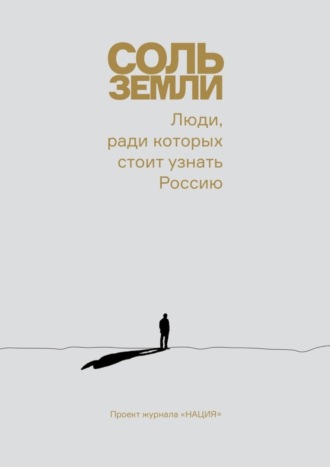
Яна Тищенко
Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию
«Папа сказал, что его забирают ненадолго, даже зубы вставные не взял. Больше я его не видела»
Создатель экскурсии по местам репрессий в Екатеринбурге Сергей Каменский – о том, как и зачем нужно оживлять страшное прошлое.
Вот уже несколько лет работники Музея истории Екатеринбурга проводят документальный аудиоспектакль по городским местам, связанным с периодом Большого террора в СССР. В основе «Маршрута памяти» (так называется спектакль) – десятки интервью с родственниками расстрелянных в Свердловской области в 1937—1938 годах. Дополняют их выдержки из дел репрессированных и исторических документов.
Мы поговорили с организатором проекта, директором Музея истории Екатеринбурга Сергеем Каменским о том, как новые форматы помогают лучше понять историю и почему о прошлом надо научиться говорить другим языком.
Из аудиоспектакля «Маршрут памяти» – свидетельствует Майя Вукулова, дочь репрессированного свердловчанина Семена Вукулова:
«Когда забрали отца, дом у нас тоже отобрали. Мы жили в землянке у какой-то старухи. Потом мы с мамой, Евдокией Ивановной, пришли на вокзал, она меня посадила на лавочку и сказала: «Посиди, я скоро приду». Я сидела до темноты, ждала, но она больше не пришла. Я сижу реву… Я ее больше не видела. Мне сказали, что мать волки разодрали. В те годы очень много волков было. Тетка, у которой мы жили, пришла и забрала меня с вокзала. «Вот, – говорит, – от твоей мамки только котомка осталась». Когда брата Сергея стали забирать на фронт в 1941 году, он меня посадил на поезд и сказал: «Запомни станцию, на которой ты родилась, с какого ты года и фамилию, имя, отчество». Но я не запомнила, то ли Вера, то ли Валя. А в детдоме меня назвали Майей. Я родилась в 1931 году, но меня записали 1928-м.
И еще он сказал: «Никому не говори, что отец у тебя – «враг народа». После войны брат по всем детским домам меня искал. Так и не нашел, умер».
– В конце 2016 года в состав нашего музея вошло здание на 12-м километре Московского тракта: оно находится на территории Мемориала жертв политических репрессий. Чтобы сделать там полноценный музей, нужно было собрать материал по теме. Стали искать тех, чьих семей коснулись репрессии, чтобы записать интервью с ними. Мы понимали, что тема эта до сих пор очень сложная, неоднозначная и лучше всего будет восприниматься через конкретные человеческие истории, а не через цифры, факты и рассуждения. В итоге получилось собрать около сотни историй живущих сегодня людей, чьи родственники стали жертвами репрессий в Свердловске в 1937—1938 годах.

Сергей Каменский (в центре) с экскурсантами
Мы решили составить маршрут экскурсии по местам города, связанным с репрессиями, и включить в него аудиоистории – фрагменты интервью с нашими героями. Из Екатеринбурга маршрут ведет к Мемориалу жертв политических репрессий. Это конечная точка экскурсии, и там мы устраиваем еще один спектакль, иммерсивный.
Истории, которые нам рассказали горожане, вошли в книгу «Большой террор в частных историях жителей Екатеринбурга». Очень многие из тех, кого мы нашли, отказывались от интервью. Были и такие, кто сначала сомневался, потом давал интервью, а после звонил и просил не публиковать. В обществе все еще очень высокий уровень настороженности по отношению к теме репрессий. Одним тяжело рассказывать, другим до сих пор страшно, что нечто похожее может повториться в наше время. Некоторых уже согласившихся отговаривали родственники.
Но все же для большинства наших собеседников это было первое обнародование своей истории, которую часто даже внутри семьи не проговаривали. Это была, если хотите, реабилитация, важный психологический момент для рассказчиков и их родственников.
Я был в отпуске, когда мне прислали книжку на вычитку. Я попытался сделать это как можно скорее, но больше трех историй за раз осилить было просто нереально – настолько зашкаливал депрессивный фон. Люди рассказывали не только об аресте близкого человека, но и обо всех перипетиях жизни после этого: как дети оставались одни, перемещались по стране, пытались устроить свои судьбы.
Из аудиоспектакля «Маршрут памяти» — свидетельствует Владислав Грейсман, сын репрессированного Константина Грейсмана:
«Вначале отцу даже предложили хорошую работу – в областном управлении торговли. Это с подачи НКВД так поступали, чтобы никто ничего худого не ожидал. А потом папу арестовали.
У меня есть документ – протокол обыска. 9 ноября 1937 года в полночь к нам пришли. Их было двое. У ворот стояла машина. Позвали соседа как понятого. Меня с кровати подняли и все обыскали. Надо заметить, что отец нисколько не волновался, говорил, что это какое-то недоразумение и он завтра придет домой. Отец даже свои вставные зубы не взял. Больше папу мы не видели».
Когда мы начинали работать с этой темой, она подавалась в музейных и иных культурных проектах, в основном как противостояние «палач – жертва». И наш «Маршрут памяти» во многом повествование от лица «жертв». Это вызывает сопереживание. Но мы поняли, что такого способа погружения в тему недостаточно. Наше социсследование показало, что у людей от 18 лет и старше, независимо от поколения, есть жесткий блок на тему репрессий. Такая психологическая железобетонная стена, через которую крайне сложно пробиться. Мы старались подать тему так, чтобы эта стена начала уменьшаться. Чтобы мы не просто жили с этим прошлым, а наконец прожили его.
На «Маршруте памяти» наши зрители, несомненно, испытывают сильные эмоции, им трудно остаться равнодушными. Но насколько этот опыт помогает им в дальнейшей жизни? Не травмирует ли их он?
По нашей задумке этот опыт должен учить человечности. Поэтому мы решили создать еще и иммерсивный спектакль на самом мемориале – он работает совершенно иначе, чем «Маршрут». Если во время «Маршрута» люди путешествуют по чужим историям, то на мемориале они сами становятся героями спектакля.
Например, оказываются на чтении уголовного дела – как в качестве обвиняемых, так и в качестве судей. Или вот: мы озвучиваем страшные цифры – под Екатеринбургом были расстреляны более 20 тысяч человек. Но что это такое для русского человека, у которого 145 миллионов сограждан? Режиссер придумал такой ход: пока зрители ожидают следующего действия иммерсивного спектакля, они по нашей просьбе считают вслух. Когда считаешь и знаешь, что каждая новая цифра – это еще одна человеческая жизнь, тогда понимаешь, что 20 тысяч – это колоссально, непоправимо много.
Известный факт: когда людей арестовывали, многих расстреливали сразу, без суда и следствия, но родственникам об этом не сообщали. И родные неделями и месяцами приносили передачи, хотя им самим нечего было есть. В роще у мемориала (на предполагаемом месте захоронения) во время иммерсивного спектакля размещается серия портретов репрессированных свердловчан. Наши зрители могут и сегодня принести им последнюю передачу.
На мемориальных плитах мы предлагаем зрителям поискать фамилии своих близких или однофамильцев. Многие не просто находят, но после идут в архивы, чтобы узнать спрятанную семейную историю.
Есть в иммерсивном спектакле момент, когда человеку предлагается сбросить с возвышенности камень, на камне написаны имя и фамилия расстрелянного на этом месте человека. Зрителям не объясняют, что означает кинуть этот камень: у театрального действия могут быть разные прочтения. Но большая часть зрителей трактует это как убийство. Примечательно, что половина камень бросает, а половина говорит, что не станет этого делать. Потом, когда все собираются вместе, те, кто сбросил, испытывают шок: оказывается, этого можно было и не делать. Так мы пытаемся донести до современников: выбор есть всегда, даже когда кажется, что его нет. «Маршрут памяти» и иммерсивный спектакль на мемориале – это попытка создать эмоциональный антивирус. Научиться распознавать в себе механизм агрессии и страха, который может привести к таким трагическим последствиям.
Из аудиоспектакля «Маршрут памяти» — свидетельствует Нина Гарылешева, дочь репрессированного Франца Мали:
«Когда папу арестовали, мне было шесть лет, его я помню примерно лет с четырех. Мама говорила, что я тогда болела скарлатиной. И вот я в больнице, сижу в кроватке, поднимаю голову и вижу в окне папу, его папаху: палата располагалась на первом этаже. Но папа быстро исчезает, чтобы, видимо, меня не огорчать, потому что в инфекционное отделение не пускали. Я, конечно, плакала. Его мелькнувшую в окне каракулевую папаху запомнила на всю жизнь.
Запомнилась и ночь ареста. Когда за папой пришли, его еще не было дома. Зашли двое в длинных черных одеждах, начали обыск. Книги швыряли на пол, туда же отправили моего любимого «Айболита», при этом вслух возмущались, что папы долго нет, что, может быть, он сбежал. Но папа вернулся, а когда они его уводили, он взял меня на руки, поцеловал. На щеках у него была щетина, и мне было щекотно от нее. Это последнее, что я запомнила об отце».
Большинство тех, кто занимается этой темой в России, работают по схеме «нужно помнить это страшное прошлое». Но совершенно не понятно, почему мы должны это помнить просто так, как, впрочем, и любое другое историческое событие. Я считаю, что так это не работает. Прошлое нужно для чего-то, оно должно как-то отзываться в сегодняшнем дне, помогать нам стать сильнее, лучше. Но даже если бы все музеи страны начали работать по-новому, этого будет мало. Есть школа, старшие родственники в семье и частное восприятие этой темы. Менять массово отношение к теме репрессий можно только при помощи внутренней политики – когда на государственном уровне будут четко проговариваться какие-то вещи.
Все наши проекты объединены слоганом «Один человек – это уже много».
Уровень знакомства с темой репрессий падает. Я учился в 1990-е годы, и по моим ощущениям, тогда этому уделялось больше внимания. Сейчас постоянно сталкиваемся с тем, что подростков поражают, казалось бы, общеизвестные факты: например, что по городам и областям рассылались разнарядки – сколько человек должно быть арестовано по той или иной политической статье. Правда, и некоторых взрослых экскурсантов это сегодня удивляет.
После спектакля мы оставляем зрителя один на один с камерой, чтобы задокументировать его впечатления. Одна 15-летняя девочка сказала так: «Я живу свою жизнь, а оказывается, в любой момент меня могут просто вычеркнуть, и никто потом даже имени моего не вспомнит, и ничего не останется». Фильм Юрия Дудя о Колыме показал: когда множество известных фактов проговаривают вслух, они срабатывают сильнее.
Такие проекты, как наши спектакли и документальная книга, могут оказывать на зрителей и читателей прямое воздействие. Социологи говорят, что после посещения спектакля у людей снижается блокирующий фон: у них появляется больше слов и эмоций, которые они используют при обсуждении темы. Конечно, мы не можем утверждать, что жизнь у людей делится отныне на «до «Маршрута памяти» и «после». Но думаю, что у кого-то такое точно происходит.
Кроме того, у культурных проектов есть отложенный эффект. Его трудно измерить, но он точно есть. Может быть, когда-то в детстве Илон Маск посетил музей космонавтики, и что-то там осело в голове, позже раскрутилось, а потом выстрелило. Так и здесь: мы пока не можем сказать, как этот опыт повлияет на зрителей позже, но эффект будет точно.
Автор Виктория Сафронова / фото из архива героя
«Приезжайте к нам в марте. Как раз потеплеет до минус 30° C»
Фотограф Алексей Васильев показывает родную Якутию.
– Давайте составим памятку для туриста. Что обязательно нужно посмотреть в Якутии?
– Сходить в кинотеатр – посмотреть якутское кино. Для русскоговорящих есть титры. Традиционно туристов водят в ресторан якутской кухни, в «Царство вечной мерзлоты» – пещеру с ледяными скульптурами. Мне такое не очень. Если бы ко мне приехал дорогой гость, я бы поводил его по нашим трущобам. «Посмотри, друг, минус 50° C, а человек живет в этом домике». Потом – кататься на автобусе. Надо-надо проехаться несколько остановочек на маршрутке. Битком людей, невозможно понять, где заканчивается одна шуба и начинается другая. Надо в это окунуться.
– Что нужно попробовать?
– Попробуйте кюэрчэх, мне его бабушка по утрам готовила. Это традиционное якутское блюдо типа йогурта, из сметаны или сливок с ягодами и сахаром.
– Что увезти в качестве сувениров?
– Купите якутский нож. Пригодится вам и на кухне, и на охоте. Проснетесь в Москве, захотите на охоту – и вот, пожалуйста.

Близнецы Семен и Степан в роли дулганча – мифических существ, живущих на болотах, в сказке «Старушка Бэйбэрикээн».
– О каких местных привычках и обычаях нужно знать, чтобы не попасть впросак?
– Будьте готовы к тому, что, если вы что-то планируете, это что-то может не состояться. Таксист потеряется, продавец о вас забудет. Человеческий фактор – очень сильный фактор в Якутии. Человек просто забыл, или срочно понадобилось в гости, или «ого, я зарос, пора подстричься». Короче, «всяко-разно может случиться» – так у нас говорят. Поэтому наберитесь терпения. Не принимайте на свой счет. Человек, скорее всего, очень хорошо к вам относится и все для вас сделает. Но не с первой попытки. И, может, не со второй.
– Какой национальный праздник, обряд можно и нужно увидеть своими глазами? Стоит ли пытаться попасть на якутскую свадьбу?
– Единственный большой национальный праздник – Ысыах, якутский Новый год, он отмечается летом. Красивый праздник под открытым небом, там как раз можно оценить национальный колорит: костюмы, юрты, сэрге, народные ансамбли. Напрашиваться на свадьбу не советую, ничего такого, как в фильме «Горько», там не будет. Якутские свадьбы поспокойнее русских, даже нудноватые местами. Кстати, снимать свадьбы и юбилеи меня не зовут. Жалко, потому что я люблю снимать портреты – как люди нарядились, накрасились, как сидят скучают. Там же очень разные люди собираются, человек по двести, многие из сел приезжают. Сидит девушка в Prada с ног до головы – и рядом с ней родственница из улуса. Я такое люблю гораздо больше, чем веселые конкурсы. Якуты вообще не очень эмоциональные. Вот я не думаю, что произвожу на вас впечатление сверхэмоционального и сверхобщительного человека, но по якутским меркам я именно такой.
– Насколько небезопасно путешествовать по Якутии без провожатого? Можно ли потеряться или встретить диких животных?
– Потеряться можно. В лесах постоянно даже местные теряются, МЧС и поисковики ищут регулярно. Медведей и волков даже под Якутском можете встретить. А в криминальном смысле все достаточно спокойно. Зато запросто можно обморозиться. Довольно часто это происходит с иностранцами. Просто приезжают без теплой одежды. Возьмите подштанники. А лучше еще одни подштанники. И большой пуховик. Если ты правильно одет, то в минус 50° C можно легко гулять час или два. Никаким барсучьим жиром натираться не нужно.
– Насколько вообще Якутия – в смысле инфраструктуры – готова к внутреннему туризму?
– Инфраструктура? Вы как будто желаете плохого якутскому туризму. Отсутствие инфраструктуры – наше лучшее украшение. Ее в Турции и Египте навалом. Сюда люди приезжают за экстримом: интересно посмотреть, как живет самый холодный регион в мире, как люди умеют приспосабливаются.
– И, наконец, когда ехать к вам – чтоб и не замерзнуть, и мошкара не сожрала?
– Зимой. Попробовать, что такое мороз минус 50° C. Можно не на пике, в марте: будет минус 30° C – хорошая весенняя погода. Мошкары в минус 30° C точно не будет.
Якутск – это столица Якутии, мы живем здесь так же, как живут люди в Чите или в Краснодаре. Только на улице минус 50. Но есть север Якутии, где природа и быт людей как будто застыли во времени. Эвенки, конечно, совершенно иначе живут. Наша жизнь крутится вокруг нас самих, их жизнь – вокруг оленей.
Якутия огромная. Пять Франций по площади. Я якут, но не видел всей Якутии. На севере я еще не был. Это непросто. Во-первых, финансы. Авиабилет из Якутска в Верхоянск – около 25 000 рублей в один конец. Можно несколько раз слетать в Москву. Но как фотографа меня не это волнует. Творческие страхи. Север Якутии – это мечта фотографа, роскошная фактура, так что снимали там не раз, в том числе сильные фотографы с мировым именем. И я даже не знаю, что я смогу нового предложить. Ну и, как всегда, переживания, что люди не откроются, что не смогу их расположить. Но все равно, рано или поздно обязательно поеду.
Мой последний фотопроект – Сахавуд. Ежегодно в Якутии снимается 10—15 полнометражных картин. В основном снимают летом. Большей частью комедии и ужасы на якутском языке. Конечно, я нормальный человек и не жду увидеть там Тарковского или Звягинцева. Но из полутора десятков два-три фильма можно посмотреть без слез и даже с удовольствием.
Мне очень нравится фильм 2017 года «Костер на ветру». Все якутские фильмы малобюджетные – пара миллионов рублей в лучшем случае, а этот, говорят, вообще сняли за 300 тысяч. Фильм не окупился. Но фестивальный успех был. Потому что видно, что сделано с душой. Режиссер фильма Дмитрий Давыдов – учитель в сельской школе, который просто вел кружок, со своими учениками снимал ролики и маленькие фильмы, а потом понял, что хочет сделать настоящий фильм. Просто придумал и снял все это с непрофессиональными актерами. О том, что его волнует, о жизни села, о проблеме алкоголизма. Там парень случайно убивает друга, не выдерживает и совершает самоубийство. Его отец начинает приглядывать за пацаном-беспризорником. А отец его друга никак не может успокоиться, ненависть его сжирает. Но не буду все рассказывать. Посмотрите, хороший фильм.
Второй фильм – «Надо мною солнце не садится» – про парня, которого отправили для перевоспитания на остров. А иначе он целыми днями сидит в соцсетях и пилит вайны. На этом острове он знакомится со старичком, и начинается самое интересное – история их отношений. Этот фильм очень хорошо приняли на Московском международном кинофестивале именно из-за игры актеров. Они как будто не играют, просто живут. Старичка играет очень популярный якутский актер Степан Петров. Ему 75 лет. До 70 лет человек вел спокойную жизнь в улусе, играл в Кердемском народном театре. Потом снялся в фильме «Царь-птица», а фильм взял Гран-при 2018 года на ММКФ. Степан Дмитриевич стал звездой. Он настолько у нас популярный, что его в рекламе снимают: висит на билборде, молоко рекламирует. Я ездил к нему домой, в его улус. Целый день с ним провел, снимал его, общался. Никакой звездой, он себя, конечно, не считает, но внимание к нему повышенное теперь. Приезжали ребята с «Радио Свободы» и сняли про него целый фильм «Двойная жизнь Степана Петрова»: вот он на красной дорожке фестиваля, а вот в своем улусе пьет чай с женой и кошкой. Он, правда, классный, спокойный, душевный, похож на шаолиньского учителя из старых китайских боевиков. Хочется, чтобы это был твой дедушка.
Режиссер фильма Любовь Борисова раньше работала в банке. Это обычная история – бухгалтеры, учителя, которые снимают якутское кино. Тех, у кого специальное образование, кто во ВГИКе учился, по пальцам одной руки можно пересчитать. Остальные сами дошли до режиссуры. Решили что-то сделать, высказаться. Или просто денег заработать. Иногда в республиканском прокате якутские фильмы обходят голливудские по кассе. Потому что есть такое понятие – якутский зритель. Он любит все якутское, он благодарный, он всегда поддержит своих. Даже если фильм провальный. Гораздо интереснее ему будет смотреть якутское барахло, чем барахло голливудское или русское.
Мне вообще кажется, что якуты – исключительно творческие люди. Это из-за жизни на окраине, на периферии. Если жить одной рутиной, тянуть лямку на работе с 9 до 18, можно сойти с ума.
Считается, что якуты напористые и хитрые. Условия жизни непростые, поэтому излишний такт может тебе помешать. Но шутить о себе якуты не очень любят, оберегают свою идентичность, свою самобытность, иногда даже слишком агрессивно. «Не знаешь якутский язык? Какой ты якут!», и все в таком духе. Я знаю якутский, но я вырос в 90-е, тогда считалось, если ты не говоришь на русском, то ты гопник необразованный. Сейчас, конечно, иначе. Русский изучают в школе, но в улусах его немногие знают в совершенстве.
У якутов есть привычка держаться вместе. И немножечко избегать лишней ответственности. Мы исповедуем тенгрианство, мы язычники, когда надо, просим помощи у духов, у сил природы. А значит, меньше полагаемся на себя, как будто делим ответственность: я немного постараюсь, а дальше мне помогут силы земли или огня. И действительно помогают. Я провел девять месяцев на площадках Сахавуда, присутствовал на съемках семи фильмов. И перед каждой новой локацией киношники кормили землю или огонь, чтобы все сложилось удачно.
В киносъемках вообще нет ничего интригующего. Пять минут снимают – потом полтора часа курят, меняют свет, обсуждают что-то. Очень скучная работа, рутина. В общем, как и у фотографа. У меня только во время пандемии 2020 года началась бурная жизнь. Я начал работать курьером.
Сразу нашел тему нового фотопроекта. Нужно снимать якутские подъезды, самые душевные подъезды в мире. В некоторые дома попадаю, не могу понять, где я: какие-то книги, диванчики, игрушки, бесчисленное количество горшочков с цветами. Это умиляет, все такое наивное, но очень родное. Ковры на стене вышли из моды, но эта эстетика переехала в подъезд.
Раньше я работал в республиканской детской газете «Юность Севера» – звучит странно и необычно, как привет из прошлого. Так и есть, это газета из советских времен, раньше называлась «Будь готов». По образованию я филолог, учитель русского языка и литературы, но в школе работать не хотел, хотел писать. Пошел в детскую газету, потому что в какой-нибудь модный журнал идти было страшно. В основном мы освещали детские мероприятия, ездили по улусам, вели просветительскую работу, разговаривали с детьми. В общем, газета не для детей, а скорее про детей. Не могу сказать, что я там стал писателем, зато понял, что хочу фотографировать. Понял, что мне интересны люди, какие-то простые и при этом неожиданные ситуации.
Людей в Якутии волнует то же самое, что и всю Россию. Пандемия сейчас волнует. А вот, скажем, пенсионная реформа – нельзя сказать, что здесь этим все озабочены. Мы все равно уйдем на пенсию раньше, чем остальная Россия. Шучу, дело не в этом. Просто мне кажется, какая-то повседневная, бытовая повестка нам ближе. Митинги в Москве? О’кей. Но в Якутии какие митинги? В минус 40—50° C? Но, кстати, я видел у нас митинг оппозиционеров: человек двадцать собралось на площади в 40-градусный мороз. Постояли немножко. Смотрелись здорово, я поснимал.
Автор Екатерина Максимова / фото Алексея Васильева


