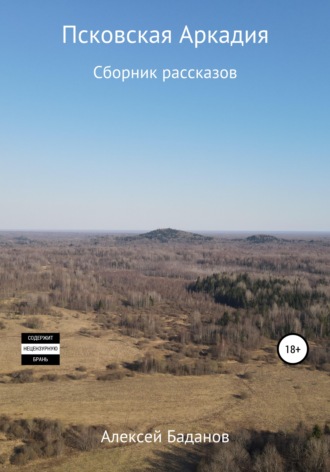
Алексей Вячеславович Баданов
Псковская Аркадия. Сборник рассказов
Со своими обязанностями она справлялась прекрасно. Быстро и точно в уме считала суммы покупок, явно разбиралась в сортах колбасы, и даже давала дельные рекомендации при покупке алкоголя, бывшего основным товаром в предпраздничные дни.
Я дождался, когда, выдав необходимое количество снедей и бутылок очередному дачнику, Пеппи не задумавшись ни на секунду сказала ему «одна тысяча пятьсот двадцать три» и спросил её, пока тот подбирал в портмоне необходимые купюры:
– Не подскажете, продавца Людмилу, где найти?
– А Вы – Андрей? Вас дядя Андрей прислал Анну Никандровну в деревню свозить?
– Да, вроде того…
В это время отчаявшийся дачник протянул Пеппи портмоне и попросил:
– Да заебался я считать, дочка, ты сметливая, возьми сколько надо сама.
Та взяла портмоне и быстро набрала необходимую сумму показывая каждую купюру покупателю:
– Так, дядь Вов, я у вас взяла тысячу, пятьсот и сто. Вот вам сдача: пятьдесят, десять, десять, пять и два.
Осчастливленный «дядь Вов» ушёл с двумя большими позвякивающими пакетами, а Пеппи обратилась ко мне:
– Вы тут постойте, посмотрите за товаром, я сейчас маму позову, продавец Людмила – мамка моя.
Она выбежала через заднюю дверь на улицу, и я тут же услышал её крик:
– Мамк, тут приехавши… за баб Аней!
И в то же мгновение вернулась обратно.
– Сейчас придёт, – и сразу повернулась к подошедшим покупателям. – Что вам?
Людмила оказалась потрёпанной жизнью копией своей дочери, на мой взгляд чуть за сорок (я потом узнал, что ей недавно исполнилось 33). Худая, невысокая женщина с выкрашенными «под блондинку» волосами, у корней которых просвечивала природная «рыжина», смотрела на меня карими небольшими глазами. В них была усталость и даже, как мне показалось, обвинение. Я почувствовал себя неловко и едва смог выдавить из себя приветствие.
– Приехал? А я думала брешит Андрюха, как всегда… Ну пойдём к баб Ане в дом, коль приехал.
Дом «баб Ани» был стандартным двухквартирным, обложенным грязным бежевым силикатным кирпичом. Крыльцо выкрашено яркой синей краской. На коричневом полу и ступеньках лестницы лежал домотканый застиранный половик с бледными красными и зелёными узорами, почти потерявшими цвет. Входная дверь обшита черным дерматином. Над дверью металлическая иконка Николая Чудотворца. С потолка, на витом шнуре – засиженная мухами лампочка.
К крыльцу примыкал ограждённый метровым забором из переплетенных ольховых жердей «палисадник», плавно переходивший в огород. Всё ограждённое пространство представляло собой царство геометрической красоты и гармонии. Создатели регулярных парков Версаля и Петергофа взирали бы завистливым взглядом на идеально пропорциональные грядки, белёные по линейке стволы яблонь и отсыпанные песком дорожки.
Во второй половине дома жила Людмила с дочкой Олей. У неё была новая металлическая дверь и окна-стеклопакеты. Вместо крыльца к цоколю были приставлены два деревянных ящика разной высоты позволяющих войти в дом. Огорода и палисадника, да и какого-то ограждения не было вовсе.
Сухая высокая Анна Никандровна в бордовом халате с узором «огурец» встретила меня у крыльца. На вид ей было лет семьдесят. Она улыбалась.
– С приездом, Андрюша, проходите в дом, сейчас кушать будем.
Мгновенно я почувствовал себя первоклассником, полностью доверился любимой учительнице и пожалел, что в школу двадцать четыре года назад я пошёл на Гражданке, а не в Заозерье.
– Да, Анна Никандровна, сейчас перегоню машину, возьму вещи и приду, – ответил я, немного смущаясь.
Припарковавшись у крыльца, я вошёл в её дом.
Вопреки моему ожиданию, внутри пахло свежестью и весной. Стены были обшиты ничем не покрытой доской— «вагонкой», порыжевшей от времени. В доме был идеальный порядок, очень много цветов в горшках и книг на полках, полочках, и в застекленных книжных шкафах. Белые деревянные оконные рамы выглядели свежеокрашенными, а стёкла отливали синевой. Коричневый дощатый пол покрывали домотканые дорожки разных форм: продольные, квадратные и круглые.
– Андрюша, мойте руки и проходите в зал, я сейчас накрою…
Я помыл руки на кухне, где в углу располагался белый «мойдодыр» – монументальное сооружение на кривых ножках.
Обещанные «самолепные» пельмени уже дожидались меня в большой тарелке с золотым ободком и ромашками, относящейся к какой-то дано ушедшей эпохе. Сами они тоже были из другого времени, не знавшего усилителя вкуса глютамат натрия и ароматизаторов, абсолютно идентичных натуральным. В граненом стакане, заполненном неестественно белоснежной сметаной, стояла тяжелая столовая ложка.
Я ел, не торопясь и думая о том, что всё это путешествие переносило меня скорее не сквозь накрученные на зубастые шины моего внедорожника километры, а на величину, куда менее заметную, но от того только сильней ощущаемую – годы.
Из моего полностью оцифрованного постиндустриального бытия, определяющегося социальными сетями и приложениями, я вдруг перенесся на несколько десятков лет назад.
В мир, где для обозначения отсутствия хозяина в доме к двери приставляется палка, а посещение соседней деревни, отстоящей на 15 км может занять целый день и обсуждаться ещё неделю.
Собственно, ради такого путешествия, я и приехал сюда.
История была в следующем.
Анна Никандровна родилась в 1934 году в деревне Глубокое, расположенной на берегу одноименного озера километрах в пятнадцати от Заозерья. Во время оккупации деревню сожгли, десятилетняя Аня оказалась у тёти в Пожеревицах. Она выросла, закончила школу, потом педучилище, потом институт, вернулась домой и проработала всю жизнь в Заозерской начальной школе, научив 14 классов мальчишек и девчонок читать, писать, думать и понимать жизнь.
И все эти годы она хотела доехать до своей родной сожжённой деревни.
Да так и не доехала.
В молодости она не осознавала, насколько боится этого места. Отговаривалась себе бессмысленностью, ненужностью такой поездки. Даже советовалась с воспитавшей её теткой Клавдией Егоровной. Та говорила: «Да что там по бурьянам бродить. Поди ногу наколешь.»
Да и жизнь она вела деятельную, не позволяя себе особого передыха.
О трёх десятках сельских ребятишек она пеклась как о родных, не только преподавая им обязательные дисциплины, но и делая с ними на «продлёнке» домашние задания, читая книги, а у иных и вычёсывая гнид мелким гребнем. Многие родители поначалу ругались на неё, приходили «выяснять отношения»: дети проводили два – три лишних часа в школе в ущерб своему участию в домашнем натуральном хозяйстве. Но поговорив с «учителкой» обычно смирялись и позволяли чаду отлынивать за книжками от уборки навоза и кормления куриц и поросят.
Замуж она так и не вышла и своего хозяйства не держала, чем удивляла и раздражала односельчан. Скромной учительской зарплаты хватало на почти монашеский образ жизни, главной статьёй расходов в котором были книги.
Книги были дефицитные и дорогие. Полные собрания сочинений русских классиков, среди которых выделялось юбилейное пятидесятитомное пушкинское, изданное академией наук к столетию смерти поэта в 1937. Библиотека приключений, зачитанная учениками до натуральных дыр в потёртых обложках и отдельно, особенно любимый детьми, пятитомник Жюля Верна.
В отпуск она почти всегда ездила в Пятигорск, где жила двоюродная сестра Надежда, вышедшая замуж за однокурсника, ставшего крупным партийным функционером. Отпускные расходы Анны Никандровны составляла оплата дороги в два конца. В гостях она оказывалась на всём готовом, да ещё и обновляла гардероб за счёт почти не ношеных платьев.
Последний год она стала просить знакомых и незнакомых отвезти её в Глубокое, говоря, что не сможет умереть спокойно, не посетив свой дом. Односельчане, хоть и почти все были её учениками, отнекивались как могли. Действительно на транспорте, даже гусеничном, в сожженную деревню уже давно никто не ездил. Доходили иные пешие грибники. Докладывали, что холм над озером лесом не зарос, даже где-то угадываются пепелища, зато от дороги не осталось и следа.
Здоровье Анны Никандровны для её лет было крепким, но пуститься в пятнадцатикилометровый пеший поход по лесному бездорожью все же было тяжело.
Когда сосед Федька, возивший на всю деревню на тракторе дрова, отказал, сославшись на ненадёжность своей техники, колёса, вращающие мир, сдвинулись, я купил ненужный мне внедорожник и приехал на нем за триста семьдесят вёрст от дома в гости ко вчера ещё незнакомым мне людям.
Ехать решено было завтра в пять утра.
Собрав всё необходимое для экспедиции, а также прогулявшись по деревне и не найдя в ней ничего интересного, я лёг спать в 9 вечера на металлическую пружинную кровать с огромными хромированными шарами по углам. Накрахмаленное до ледяной ломкости постельное бельё пахло не бывшим у меня сказочным детством и покоем.
В соседней комнате за закрытой дверью Анна Никандровна как будто с кем-то разговаривала. Я не разобрал ни одного слова, сколько ни прислушивался и провалился в лёгкий счастливый сон.
Мне приснилось, будто я лежу на облаке, а вокруг меня летает офисная мебель, компы, сканеры, принтеры и много разных смартфонов. Далеко внизу ясно виден центр Питера – Петропавловка, Стрелка В.О. Дворцовый и Зимний. Облако мягкое, тёплое и безопасное. Я свешиваюсь за край, рассматривая город, вдруг падаю вниз и лечу, стремительно набирая скорость. В момент столкновения с землей я проснулся. Всё произошло настолько быстро, что страха и боли я почувствовать не успел.
Стояла абсолютная тишина. Сквозь занавешенные полупрозрачным тюлем окна пробивался бледный серый свет раннего утра. Часы на смартфоне показывали 04.27.
Я выключил будильник, поставленный на 04.30.
Одевшись, я вышел на кухню умыться и нашёл там накрытый завтрак из горячей каши, овощного салата на душистом подсолнечном масле и почти пол-литровой кружки с горячим чаем из ароматных трав. На кружке был памятник «Родине – Матери» в Волгограде и надпись «40 лет Победе».
Тут же появилась Анна Никандровна в идеальной белой блузке, чёрной плиссированной юбке чуть ниже колен и новых чёрных туфлях на низком каблуке.
– Доброе утро, Андрюша. Кушайте и поедем. Я уже готова.
Необходимые для поездки вещи – два топора, лом, бензопила и канистра с бензином и маслом к ней, были в багажнике ещё с вечера. Анна Никандровна подала мне большую грибную корзину, набитую снедью в дорогу, а себе повесила на плечо дамскую сумочку на длинном тонком ремешке по моде начала 70х, но, видимо, почти не ношеную. На свой идеальный наряд она накинула длинную вязаную кофту—кардиган, светло-серую с большими малиновыми цветами неизвестного вида. Кофта была изрядно поношенная и сильно выбивалась из общего стиля. Поймав мой недоуменный взгляд, она сказала:
– Мёрзну. Старая стала. Да и люблю я её. Лет двадцать на уроки ходила в ней.
Около машины нас ждала Пеппи – дочка продавца Людмилы Оля
– Я с вами поеду.
– А мама в курсе? – спросил я на всякий случай.
Оля открыла дверь, подняла пассажирское сидение, протиснулась назад и уже оттуда ответила:
– В курсе.
Первые полчаса ехали по приличной дороге, пробитой Федькой до его делянки. Дальше пошло хуже. Дорога исчезла, то есть превратилась во вполне угадываемую, но всё же пешеходную тропинку, петляющую вокруг деревьев. Подминая кусты и ломая небольшие деревья «Нива» уверенно ползла вперёд на первой пониженной, переваливаясь огромными колёсами по неровностям почвы.
Иногда я выходил осмотреться и погружался в волну звуков утреннего весеннего леса. Листочки только начинали появляться, изумрудная зелёная трава проглядывала островками сквозь пожухлую прошлогоднюю и всё вокруг было такое живое и радостное, что хотелось закричать что-то или спеть.
В одном месте дорогу преграждала огромная, почти полуметрового диаметра осина, объехать которую не представлялось возможным. Я открыл багажник, достал бензопилу и дёрнул несколько раз за шнурок кик-стартера, как мне показывал вчера Федька. Пила не заводилась. Я уже начал немного паниковать, представляя, что придётся сейчас возвращаться обратно, обращаться за помощью и принимать её под снисходительные замечания деревенских жителей, как почувствовал, что меня легонько отодвигают в сторону. Оля, выбравшись из салона через открытую дверь багажника, подошла сзади.
– Дядь Андрей, Вы воздушную заслонку не перекрыли, она так на холодную не заводится, – затем выдвинула забытый мною рычажок в положение «закрыто», наступила кроссовком на корпус стоящей на пеньке пилы и легко дёрнула за шнурок. Пила тотчас послушно завелась, затарахтела, позвякивая на холостых оборотах и обдала нас запахом бензина и выхлопных газов, изгнавшим из леса атмосферу сказочности.
Я перепилил упавший ствол в двух местах и передвинул его ломом в сторону, освободив место для проезда автомобиля. Когда я вернулся за руль Анна Никандровна рассказывала Оле о своём детстве. Речь её была правильной, немного даже литературной.
–… ну в войну то уже коней не было. Пахали на коровах. Боронили на себе. Нас пятеро было, я самая младшая. У меня было четыре старших брата. Нам хорошо жилось. Работать любили все. У нас до войны было две коровы – Ночка и Зорька. Молока давали – по подойнице за раз, а это десять литров. При том, что хлебом коров не кормили. Никому и в голову такое прийти не могло. И комбикорма никакого не было. Сена накашивали вдоволь, хотя всё нелегально. Колхоз запрещал для себя косить, такие законы были…Но родители и братья косили – вечером, ночью после работы. Лужайки обкашивали в лесу, заливные луга у озера, куда подводой не въехать… Дружные были, работящие. А уж как меня любили…баловали…
– Баб Ань, а как сушили?
– Что?
– Ну как сушили сено? Если ночью косили для себя, днём в колхозе работали. Сено то само не высохнет.
– А на вешалах, дочка. На вешалах сушили. Папа ставил за домом вешала – это как…каркасы такие из жердей. Скощенное сено на веревке охапками приносили и развешивали. Оно и сохло.
– Уу, понятно…
– Отца-то забрали ещё на финскую. Потом он дослуживал уже. Написал, что в июне отпустят. Мы его очень ждали, особенно мама. Они с папой очень любили друг друга и жили дружно. Я не одного бранного слова дома не помню. Вообще никто из родителей голос не повышал, ладом всё шло. И братья тоже все сильные, спокойные. Старший – Николай – 26-го года рождения, потом Пётр – 27-го, Фёдор – 29-го, Алексей— 32-го. Они и по хозяйству всё умели и по плотницкому, и по столярному. Всё могли. Папа то был на деревне первый столяр и плотник. У него весь инструмент был свой. Он в колхозе за трудодни делал сани и телеги…
– Баб Ань, а за трудодни это как?
– Это была такая система оплаты труда. Платили зерном или крупой, или картошкой. По нормативам. Например, один трудодень – десятину пуда ржи. Или восьмушка картошкой. А пуд – 16 килограмм.
– А деньги?
– Что деньги?
– Ну деньги, зарплату в колхозе сколько платили тогда?
– А нисколько, дочка. Деньги после войны стали платить, да и то не скоро. Уже после Сталина.
– А в магазин как ходить?
– Да не было дочка магазинов в деревне. И ходить не куда. Всё сами делали. Ткали, шили. Мама шить хорошо умела. Ну по осени на клюкву ходили, как вы сейчас. Папа возил клюкву на базар, продавал. Ну ещё папа по-столярному мог: стол сделать или стул, или шкаф даже. Ему за это платили кто чем. В основном продуктами, иногда вещами, но деньгами редко. Не было денег у людей. Но нам всего хватало. И сыты были и обуты -одеты…
– А папа вернулся, баб Ань?
– Нет, дочка, папа не вернулся. Его с финской погнали на Отечественную. Он даже до фронта не доехал. Под Смоленском их эшелон разбомбили, и он погиб. Только мы тогда не знали об этом. Это я после войны всё разузнала, когда стала паспорт выправлять. А мама всё говорила нам: «Вот Никуша придёт с войны и заживём».
Мы почти сразу под оккупацию попали. И сначала неплохо жили. Колхоз разогнали, косить и сажать стало можно где хочешь. Деревня у нас и тогда уже была глухая, так постоянно немцев у нас не было. Проведать заезжали, документы проверить, порядок свой показать. Корову забрали у нас одну, сказали на военные нужды. А вторую оставили. И эту то не совсем забрали, а как бы попользоваться. Расписку написали, обещали после войны вернуть. Заплатили 10 марок. Но это очень мало было, не купить ничего.
Мы ехали по тропинке уже часа полтора. Несколько раз за это время мне пришлось задействовать свой инструментарий, обрубая мешающие проезду сучки, перепиливая и откатывая в сторону стволы упавших деревьев и периодически вытаскивая из топких мест застрявший автомобиль электрической лебёдкой, укреплённой на силовом бампере.
Каждый раз, возвращаясь в салон после гераклического подвига, позволявшего нам двигаться дальше, я заставал своих спутниц оживлённо беседовавшими и узнавал всё новые и новые фрагменты истории жизни Анны Никандровны.
… а что дом? Дома я другого не хотела. Так и промыкалась всю жизнь по углам, пока в 85 году эту квартиру не дали, где я сейчас живу. А так у тётки Клавдии – угол, в общежитии – комната на шестерых. Как сюда вернулась, с 57-го по 70й в прямо в школе и жила. Комнату дали. Да и хорошо было – проснулась и на работе. Потом, в 70м школу старую, деревянную сломали и поставили кирпичную, новую, побольше. Только в ней места мне не хватило уже. Сказали нельзя. Не предусмотрено нормативами…Меня пустила к себе одинокая женщина – Татьяна Федоровна – напротив школы жила. Пустила на день два перекантоваться, когда шабашники приехали старую школу ломать, а меня не предупредили. В районо и райисполкоме решение о сносе приняли, а до нас «не довели».
Летом это было, в начале каникул, хорошо я в отпуск не ушла ещё, а то так бы и разобрали всё с моими книжками…В общем мы с Татьяной подружились и осталась я у неё на 15 лет. Я бы и потом не съехала, да только умерла она. Тихо так, как жила. В воскресение съездила в церковь в райцентр, причастилась. Наша то закрыта была тогда. Попросила баню стопить. Помылась, напарила я её хорошо, она парится любила. Крепкая была, хоть и на девятом десятке. Легла спать и умерла. Я утром пришла к ней в комнату, а она улыбается и не дышит…
Тропинка пошла вниз и вскоре впереди сквозь неровный частокол ольхи и осины показалась ярко синяя гладь озера. Как и обещал мой тёзка, мне действительно предстояло проехать метров сто по воде вдоль берега. Лес перерезал глубокий обрывистый овраг с журчащим по его дну ручьём и спуститься вниз, а уж тем более выехать обратно было невозможно.
Анна Никандровна подтвердила, что вдоль берега всегда шла насыпная дорога, которую местные жители крепили гатью и даже устанавливали что-то вроде дорожных столбов по наружной её стороне, остатки которых ещё торчали немного из-под воды. Произведя пешую разведку, я решил, что деваться некуда, нужно ехать «по воде, аки по суху», как назвала этот способ передвижения моя главная пассажирка. До самой сожжённой деревни оставалось километра три. Она находилась на вершине довольно высокого пологого холма на противоположенном берегу озера и была отлично видна нам.
Когда я вернулся в машину я услышал следующее:
– Здесь на озере две деревни было. Там Глубокое, а чуть правее того места, где мы из лесу выезжали – Торбыши. Там земля похуже и как-то повелось что там хуже жили – голытьба одна. Торбышинские в коллективизацию сразу сами и в колхоз пошли – «Красный путь» назывался. Наши то до последнего держались, уже когда из райцентра с наганами приехали и две семьи увезли – поминай как звали, только тогда зашли. А как немцы пришли – так многие торбышенские в полицаи подались.
– Баб Ань, а глубокинские – в партизаны?
– Нет, дочка, Из нашей деревни никто в партизаны не пошёл. Мужиков то и не было – подростки да старики. Но партизаны были в лесах этих. Разные были. Бывало повоюют, а бывало и пограбят. Человек с оружием, когда сам себе хозяин – сатанеет. Ни страха не знает, не совести.
Мы без труда проехали по утонувшей дороге, не погружаясь глубже ступиц. Выехав снова на берег, я вышел осмотреться.
Когда я вернулся, Анна Никандровна молчала. По щеке катились слёзы.
– Дом то у нас был самый лучший – пятистенок, папа мебель хорошую сделал. Уютно было, хорошо. Не обшит был, просто брёвна, так мне всегда казалось, что брёвна тёплые. Я на лавке любила спать, на кухне. Прижмусь щекой к стене и думаю, как всё хорошо вокруг. Вот папа с братьями дрова колют, а мама стряпает, а у Зинки—подружка у меня была, собака ощенилась. Так и засыпала.
На краю нашей деревни вдова жила – Тоня. У неё мужа ещё до войны на лесосеке задавило. Двоих деток растила – Колю и Машу. Красивая была, видная. К ней сватался мужичёк один торбышевский, Венькой звали, не знаю, может Вениамин полное имя. Бобыль, да и в летах, она и отказала. Под немцами главным полицаем стал, хотя партейный, но скрыл как-то. Стал он снова к нашей Тоне захаживать, мол тяжело одной, помогу. А у Тоньки-то этой помощник уже и так был. Офицер немецкий. Молодой, статный. И к ней, говорят, серьезно отнёсся – мол увезу, женюсь, будешь майне фрау.
Так вот этот Венька подкараулил жениха Тониного, когда тот вечером от неё уходил – а немец приличный был, на ночь никогда не оставался, и застрелил его из кустов в спину. И сам же первый побежал докладывать, мол в Глубоком партизаны убили офицера. А наши то видели, как всё было, только их не спросил никто.


