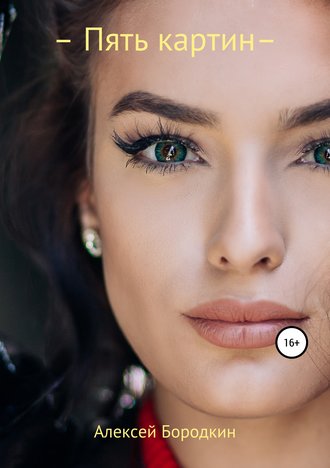
Алексей Петрович Бородкин
Пять картин
– Я боюсь.
Анна Адамовна готовила ужин. Готовила неспешно, размеренно. "В темпе престарелого паровоза Никифора" – так она говорила. Астя сидела за уголком кухонного стола, читала.
…Сказать откровенно, Анна Адамовна предпочитала такие тихие семейные вечера. Здесь всё успокаивало нервы: нет оснований для неожиданностей; всё на своих местах, обитатели дома живы и, слава Богу, здоровы. На плите варится суп (или булькает в сотейнике рагу), в чайнике заварен крепчайший чай (иного Анна Адамовна не воспринимала), рядом – любимая дочь.
– Чего вы боитесь, Вишенки?
В младенчестве Астя обладала выдающимися щеками (как и все новорождённые дети), в моменты "приступов нежности", Анна Адамовна называла дочь во множественном числе: Вишенки.
– Операции, – ответила Астя.
– Бояться операции глупо, – ровно произнесла мать, – мы много раз об этом говорили.
– Мама! – В голосе дочери появились звенящие ноты. – Ты не берёшься за труд меня понять! У меня есть дом…
– Прекрасно.
– Есть работа…
– Очень хорошо.
– Я люблю джаз, люблю Нэта Кинга…
– Не понимаю…
– Дай мне высказаться, наконец! Не перебивай хотя бы минуту, и ты всё поймёшь!
– Пожалуйста-пожалуйста… Вишенки.
Мать шутливо пожала плечами. Астя не увидела (не могла), но почувствовала движение.
– Я живу и…
– …?
– И я довольна! – девушка всплеснула руками, словно защищая себя перед судом. – Не нужно удивляться, мама!
– Я и не удивляюсь…
– И перебивать!.. – руки упали на стол, как на клавиатуру фортепиано. Глухой Бетховен впервые исполнял Крейцерову сонату. – У меня есть любимые диски. Музыка…
Мать молчала.
– Я много читаю… ты сама покупаешь мне книги. У меня есть любимые фильмы… их много. Больше, чем может показаться.
– Не понимаю…
– У меня есть ТЫ, наконец, мама. Моя любимая мамочка. И я боюсь! Я отчаянно боюсь, что всё исчезнет! Испортится, растворится!..
– Как такое возможно…
Астя быстро договорила:
– Мир перевернётся! У вас, зрячих, всё по-другому! Мой Мир может оказаться… – на глазах выступили слёзы.
– Ах, вот оно что… – Анна Адамовна погасила плиту, взяла дочь за руки. – Ты об этом, глупенькая…
– Да, об этом, – буркнула Астя. Губы её дрожали.
Она спрятала лицо на груди матери.
– Во-первых, я никуда от тебя не денусь, – заговорила Анна Адамовна. Она "включила" режим ментора. Чуть отстранённый, прохладный, глубоко проникающий. – Я здесь, и никогда тебя не оставлю.
Отстранившись, дочь пробежала кончиками пальцев по лицу матери. Уши, щёки, брови, подбородок… всё было известно до мельчайших деталей. До абсолюта, до морщинки. Чуть изменилась причёска, но… разве это имеет значение?
– Ты перекрасилась?
– Да. Откуда ты знаешь?
– Прежние волосы по-другому лежали.
– Они были тёмными. Мне разонравилось. Так вот, я останусь с тобою, Астя. Навсегда. Это первое. И незачем об этом говорить. Второе… – Анна Адамовна обвела взглядом кухню. Многое требовало ухода (мужской руки), отставшая кафельная плитка, мойка, люстра с трещиной…
"Одинокая баба столь же нелепа, как и холостой мужик… – подумалось, – Недаром, для старого холостяка придумали кличку "бобыль". Бобыль – неспособный к семье мужичонка… Со старыми бабами на Руси хотя бы церемонились, жалели… Спокойно. Нужно держать себя в руках".
– И потом, врач просил ограничивать аппетиты, – напомнила Анна Адамовна. – Не следует рассчитывать на многое.
– Как это понимать?
– Понимать? – эхом повторила мать.
Разговор повторялся тысячу раз. Каждое новое слово хирурга обтачивалось/обсасывалось всесторонне. Миллион раз.
– Мы должны умерить свои ожидания. Так он сказал.
Картина четвёртая: Доктор
– В лучшем случае, мы имеем право рассчитывать на светочувствительность.
В маленьком геометрически-квадратном помещении врачебного кабинета расположились трое: доктор Криг (за столом), Анна Адамовна (напротив) и Астя (сбоку, на табуретке, у двери).
Анна Адамовна:
– Что вы хотите сказать?
Женщина подняла на доктора свои огромные глаза, сверкнула ими, как кошка… не помогло – док ещё находился в "демоническом состоянии", он только что проводил операцию.
– Буду откровенен. Зрение не вернётся. Невозможно. И вообще, наш проект следует назвать "если".
– Не понимаю… – проговорила Анна Адамовна. Оглянулась на дочь, Астя слушала, не дыша, как мышка.
Криг стянул с голову голубоватую шапочку, швырнул её на пол, точно использованную шлюху. Потянулся к пачке сигарет, рука его замерла на полпути. Анна Адамовна едва заметно кивнула, и хирург полез в портфель за "насваем".
Откинулся на стуле, опустил веки, пожевал.
Через пару минут он "переродился". Стал мирным, добрым, чувствительным.
– Если… всё зависит, от если… Если мы найдём спонсора, получим двести пятьдесят тысяч долларов.
Если пропустят контракт.
Если швейцарцы согласятся сделать пластины.
Если я смогу удачно их имплантировать.
Если они приживутся.
Если не случится других если…
– Тогда что? – спросила Анна Адамовна. – На что мы имеем право рассчитывать?
Вопрос получился пафосным, нелепо-рекламационным. Претензия звучала назойливо, точно вырванная с мясом пуговица. Доктор мог расхохотаться в ответ, воскликнуть: "Ни-на-что! Вы – твари дрожащие! Вы не имеете права надеяться! Таких как вы много".
И это правда: больных много. По стране – сотни, быть может, тысячи. Терапевтов тоже внушительная армия, но здесь недостаточно быть терапевтом, микрохирургом, или офтальмологом. Нужен Волшебник, способный победить "если".
– Вернётся светочувствительность, – проговорил Криг. – Она сможет различать контуры предметов, свет и тень, если…
– Мне страшно! – воскликнула из своего угла Астя. – А если что-то пойдёт не так?
Криг не ответил. Никотиновое возбуждение быстро отпускало, как сумрак, наваливалась на плечи усталость. Трудно пошевелить головой, не говоря, чтобы встать. Упасть на кушетку и задремать – единственная радость.
"К чему все эти разговоры?.. Господи, избавь! Мне нужно работать. Я трачу время и силы на беседы… какая глупость. А операция сегодня прошла успешно… ещё один тополь найден…"
Вспомнился родной Чон-Гар, цыган Ферка.
Ферка… откуда он взялся? Никто не ответит. Сколько ему было лет? Неизвестно. Ферка жил в пригороде, около фермы. На той ферме лелеяли бройлерных кур особой итальянской породы. Ферма была маленькая, скрытная, располагалась за высоким забором. И судьба кур не случалась простой и линейной: ферма-магазин-кастрюля. Три с половиной месяца курочек выращивали в клетках, потом выпускали на свободный выпас. Ещё полгода куры щипали травку и откапывали личинок из сухой земли. Потом их – нагулявших правильный жир – любовно умерщвляли, и отправляли в Ташкент. Высшему руководству республики.
Разжиться курятиной на выпасе не представлялось возможным. Выпас охраняли бактрийцы с ружьями. Они лопотали на своём языке, и стреляли без предупреждения. Убить вора – за счастье. Премия и недельный (кажется) отпуск.
Тогда Ферка проделал под забором подкоп. Караулил, когда женщины-работницы возвращались со смены, требовал пищи. Ему давали… или верно сказать, подавали? Требуху, головы, куриные лапы. Словом, мусор.
Ферка отваривал потроха на костре, добавлял просо, рис и морковь. Делал плов. Ругался на всех языках мира и один раз в месяц напивался дешёвой водкой до положения риз. Как часы.
Напившись, шел бродить по округе – искал самый высокий тополь.
"Если цыган потерялся, – утверждал Ферка, – он должен найти самый высокий тополь. Сесть под него и ждать".
"Чего?" – спрашивал Миша Криг.
"Когда поднимется сильный ветер, он укажет направление, – отвечал цыган. – Нужно идти в этом направлении и найдёшь своих!"
Сильный ветер поднимался много раз, но Ферка не уходил из долины.
Зато ушел Миша Криг.
Однакось, прежде необходимо сказать хоть несколько слов об отце Михаила Николаевича, Криге старшем. Этот еврей сплошь состоял из недостатков, и национальность была наипервейшим его конструктивным дефектом. Я догадываюсь, как он оказался в Узбекистане… каким порочным ветром его туда занесло. Чья злая воля… впрочем, об этом позднее.
Вторым его недостатком было имя. Отца звали Сруль. Узбеки не ухватывали юмора и охотно кивали головами при знакомстве: Сруль, значит Сруль… чем хуже Ивана? Но устроиться на приличную работу с таким именем было категорически невозможно. И завести русских друзей, и обретаться в приличной компании.
Сруль Криг окончил дорожный университет, приехал в долину по распределению. Три года отработал рабочим, невероятно (просто фантастически) разругался с начальством, был уволен, мыкался, в конце концов, прибился к местной библиотеке. Здесь его имя (и личность в целом) не интересовали никого. Вообще. Узбекская библиотека – высохший колодец в далёкой пустыне.
К счастью, избавиться от отчества оказалось не так уж и трудно. Когда братья (Михаил и Николай) Срулевичи Криги отправились поступать в институт, отец сказал, что не будет противиться и возражать: "Я мучился всю жизнь, нет смысла повторять мои ошибки. Вы больше не мои дети. То есть мои, но ваше отчество теперь…"
"Папа! – вперёд выступил старший сын. – Не говори так!"







