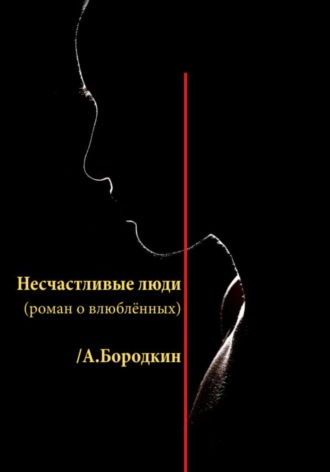
Алексей Петрович Бородкин
Несчастливые люди
– Валяй! Выписывай на полную. Импортные! Гуляем во всю ширину автопарка!
– Чтоб ты был здоров, генацвале! – добавила она и подмигнула, словно соучастнику растраты.
"Прибавь, миленький! Прибавь!"
Здесь требуется оговориться, отметить, что не борьба за жизнь племянника пришпоривала Николая Дмитриевича, но жажда справедливости – извечный русский миф:
"Бабка, помню, рассказывала… гутарила, что когда барина в Преисподнюю опустят (а опустят его непременно! за скудость ума, за грехи его тяжкие, за злобу, за обжорство), то все крепостные пойдут вслед за ним добровольно.
Зачем? – спрашивают.
Чтоб и там служить! Чтоб дровишки ему под котёл подбрасывать!"
"Следует наказать мерзавцев!" – внутри Николая Дмитриевича всё кипело. Ему некогда было поразмыслить вдумчиво… вникнуть… вспомнить, что судить следует с любовью, а не с ненавистью – так в Евангелиях заповедовано.
Знакомый дом. Третий этаж. Оконце в сизой копоти, меж рам – высохшие пыльные мухи. Вырванный звонок. Николай Дмитриевич постучал кулаком, как стучатся в гаражные ворота.
Дверь распахнулась почти мгновенно. Полубесок впустил гостя, громыхнул замком. Сказал, что гуляет по студии (очертил пальцем круг), а потому отпер сразу:
– Курсировал мимо двери, – сказал. – Шагаю от стены к стене, словно каторжный. – Заглянул гостю в физиономию, осведомился: – Ты или тебя?
– Бывало всякого, – нейтрально отозвался Кока.
К своему удивлению, в это мгновение Николай Дмитриевич почувствовал груз – пятипудовый мешок зерна, который он добровольно взвалил на плечи, и носил всё это время.
Меж тем, не в грузе было дело. Не в тяжести. И не в ответственности. Так получалось, токмо что в студии Полубеска – малознакомого дикого мужика – можно было не кривляться… не прятать лица за маской… не казаться лучше, чем ты есть.
В студии почти ничего не изменилось… и в то же время, изменилось многое.
Во-первых, с картины исчез мужик с бидоном. Исчез начисто, будто его и не было. Мужик исчез, а вместо него появилась "недостача" – ощущение пустоты. Дыра.
Во-вторых, рядом с "обеденным столиком" обосновалась пятилитровая полупустая канистра какого-то таинственно-очевидного напитка.
Полубесок сказал, что это чача. Что он ухаживал в юности за осетинской девицей, дочерью местного графа, писал портрет её отца:
– Старик проникся ко мне, вообрази. С той поры каждую зиму присылает чачу. Хочешь?
Николай Дмитриевич отрёкся, сказал, что не хочет, но выпьет с удовольствием:
– Плечи болят, и физиономия.
– Что произошло?
– В дурдоме подрался.
– Это правильно.
Полубесок принёс вторую посудину – оловянную ёмкость с барельефом Моцарта на фасаде. Художник не признавал полумер, а потому наполнил стаканы под риску.
– А ты чего? – спросил Николай Дмитриевич, интересуясь по какому поводу праздник. – Чего загудел?
– Душа загремела. Бывает у тебя такое? Нет?.. Счастливчик! Висит-висит душа на своих ржавых цепях… в самом центре мироздания-тела, томится… томится аж до ломоты в костях. – Полубесок сжал кулаки. – Потом подует свежий хмельной ветер, и… загремят цепи… жизнь покажется ясной и простой, словно бутылочное стёклышко.
– А мужик куда девался?
– Исчез. Людям это свойственно. Картина называется "Пустота". Отвечает названию, как полагаешь?
– Ещё как! Ты талантливый художник!
Полубесок достал из форточки бруснику. Неизменно морозную, дерзкую, кислую.
– Знаешь, а ведь я всю жизнь хотел стать фотографом. Фотограф работает с правдой… из правды куёт красоту. А я работаю иллюзионистом, имитирую жизнь посредством собственных фантазий. Трачу нервы и чувства, чтобы картины походили на правду. Лишь только приближались.
– Ну и чего? Сейчас с этим просто. Купи фотоаппарат и щёлкай.
– С другой стороны, фотограф – он всегда раб, он обслуживающий персонал. А я хозяин своим чувствам. Я не люблю обслугу… официанты мне омерзительны… служить бы рад, прислуживаться тошно.
Полубесок налил ещё: себе и гостю. Выпил. Выпил совершенно безэмоционально, просто вылил огненную воду внутрь себя. Тут только Николай Дмитриевич приметил, что художник уже здорово пьян – в глубине его глаз плещется темнота… чувства растворились в ней, словно краски, утратившие оттенки в банке скипидара.
Полубесок спросил, что с Аркашкой:
– Нашелся?
– В общих чертах.
– А я знал… ты умный мужик. Крепко стоишь на земле. Привык добиваться.
Душа Полубеска и правда металась, "гремела цепями". Николаю Дмитриевичу хотелось поделиться достижениями, до страсти хотелось! Хотелось в деталях расписать, как происходило и происходит следствие… с другой стороны, он боялся ненароком обидеть художника. Выдал сухо, одними фактами:
В ночь, когда Аркадий Лакомов не пришел домой, один лишь только человек попал в больницу с насильственной травмой черепа – какой-то бездомный. Маргинал, как обозначил его лейтенант милиции. Естественно, никто не подумал, что это мог быть Лакомов.
Позже выяснилось, что в тот же день Аркадий играл в спектакле. Гримировался под водяного… или домового… или лешего —
– Точнее роль обозначить не могу, – оправдался Николай Дмитриевич, – сам не понял. Трудно с театралами.
– Алябьев растрепал? – спросил Полубесок.
– Да… а что?
– Забавный он человек. Челове…чек. Помнишь, как говорил Луначарский? Меня несут по белу свету высокие идеи, а тебя твои кривые ножки. – Полубесок икнул, шустро перекрестил рот. – Алябьев всегда смотрит под ноги и передвигается вдоль стены… не замечал?
– Нет, – Николай Дмитриевич повёл головой. – Не имел удовольствия рассмотреть эту привычку.
– Я ему даже завидую. Он всегда довольствуется малым. Не сумел получить образования – устроился в театр. Когда попёрли из столицы, перевёлся к нам. Бортанула Афина – нашел разведённую еврейку с хозяйством и домиком.
– Чем плохо?
– Великолепно! Иногда я боюсь, что так и следует жить. Что в этом и заключена христианская добродетель… не искать в небе журавля… не искать в небе синицу… К слову, сегодня звонила Афина. Была на удивление открыта и прямолинейна, словно пуля. Предлагала уехать к чорту на кулички вдвоём… бросить всё и начать новую жизнь на новом месте. Любови до гроба не обещала, но верность и достаток гарантировала.
– Ого! – буркнул Кока. – Для неё это выше возможностей! В том смысле, это большие жертвы. Ты согласился?
Вместо ответа, Полубесок опять наполнил стаканчики, однако не выпил, но сунулся Николаю Дмитриевичу в самое лицо и заговорил… заговорил с жаром, глотая слова и помогая себе жестами:
– Кабы она год назад это предложила или два, я бы задумался… да чего там врать – задумался! Ха! – согласился бы безоговорочно, ведь она девка бедовая, каких поискать! Бесовка! Огонь! Но сейчас… сейчас… время моё ушло безвозвратно… ты думаешь это кто с картины исчез? Аркашка исчез? Плевать мне на Аркашку! Мелкий он человечишка! Это я исчез! Я! Знаешь, так бывает, что пришел на вокзал, а поезд твой уже тронулся и отходит – опоздал ты ненароком, ошибся часами. Ты замечешь, с изумлением, как колёса-то вертятся, и сам начинаешь бежать… инстинктивно, надеясь догнать, ведь всё в жизни достижимо, лишь только следует неистово захотеть! – Полубесок сделал руками движение, как будто выкручивал-ломал отстиранную простыню. – Шевелишь ногами, поддаёшь… а поезд всё быстрее и быстрее… "Но нет! – думаешь самонадеянно. – Шалишь, братец! Догоню!" – ибо силушка ещё в теле есть и резвость в ногах…
Он стих.
– И чего? – осторожно спросил Николай Дмитриевич.
– А того, что этого поезда не догнать. Никогда. Никому. А бежит… это я бегу. И мой последний шанс расположен именно, что в этом спурте. Не могу я отвлекаться на глупости, пойми. Бляди для меня теперь в прошлом. Мне бы успеть сделать что-то… – он тряхнул головой. – Мне бы успеть сделать хоть что-то! Все мои силы – туда, в эту топку! Каждый день я просыпаюсь и чувствую, что надо рвать жилы! Надо работать изо всех сил, иначе опоздаю. Неудачливые фотографы и художники обращаются в прах… ты знал об этом? Их пеплом посыпают пешеходные тропинки в парках.
Полубесок улыбнулся, однако глаза были влажны от слёз.
Николай Дмитриевич уверил, что автомеханики уходят в такие же "расщелины" небытия.
Сумрак заполонил студию, заполз, словно молочный кисель через окна. Габариты пространства сузились, сдвинули вселенную к столу. Стало уютно – настольная лампа очерчивала круг. Николай Дмитриевич тронул ненароком разбитую скулу, подумал, что ему потребуется серьёзное оправдание перед домашними.
Некоторое время неспешно говорили о музыке, об областной картинной галерее. Выговорившись, Полубесок размяк, сделался сентиментальным и начал выбалтывать чепуху о происхождении чачи, об осетинском князе и его дочери… притом, врал так уверенно и складно, что Кока ему верил…
Забавы ради, Николай Дмитриевич расставлял на столе брусничные ягодки в шахматном порядке. От алкоголя он как-бы приподнялся над столом и над собой… приключения последних дней казались выдумкой Жюля Верна…
Вдруг вспыхнула мысль – как ушат ледяной воды:
– Послушай! – встрепенулся. – А ты сказал Афине про билет? Про выигрыш?
– Про билет? – Полубесок поднял руку, медленно запустил пальцы в волосы. – Какой билет? Ах, да… ты всё про эту чепуховину! Нет, про билет не вспоминали. Кой чорт он тебе дался, этот билет?
Николай Дмитриевич погрозил художнику пальцем.
– А ведь она приняла твою шутку за чистую монету.
– Кто? Афина? Исключено.
– Истинно так! Говорю тебе! Думаешь, чего ради она позвонила? Откуда возникла уверенность?
Полубесок пожал плечами:
– Не имею представления. Разве бабу поймёшь?
– Эх, ты! Дурилка картонная! – Теперь уже Николай Дмитриевич наполнил оловянные стаканчики. – След мечтаешь оставить! Попасть в Третьяковскую галерею! А если хочешь знать, твои "восьмёрки" две жизни загубили. Дуплетом! Когда Аркашка про деньги узнал, ты думаешь, куда он потёк? Домой потёк?
– А куда?
Николай Дмитриевич сложил пальцы фигою: – К Афине он побежал! К Афине! Посулил жизнь райскую и предложил руку вместе с сердцем и десятью тысячами. Она, естественно, согласилась. Во всяком случае, не отказывалась. Заметь кульбит Фортуны, кабы он ей билет сразу отдал, то ничего бы не произошло. Но Аркашка оставил его при себе.
– Ну, оставил. Ну, билет. Ты меня будто в чём-то обвиняешь, – проговорил художник. – Я не святой, но не лепи из меня демона.
"Демона!" – слово вспыхнуло, будто лампочка гирлянды.
"Демона! – Николай Дмитриевич даже улыбнулся.
А кто в этой истории демон? Афина? Она борется за своё счастье. Нельзя женщину осуждать за такое стремление, это против биологических правил! Вялый её муж Алябьев? Его роль ещё предстоит разъяснить до деталей… однако, разрази меня гром, он не тянет на функцию "вселенского зла".
Тогда кто?
Сам Аркадий?
Его жена Лидия?
– Допустим! – проговорил Николай Дмитриевич. – Допустим, ты прав! – и вскинул ладони, будто отчаявшийся немец под Сталинградом. – Не станем никого судить… и даже упрекать мы не имеем права. Мне всего лишь хочется разобраться.
Николай Дмитриевич попросил написать Афине записку:
– Пойми! Это надо!
– Зачем записку? – резонно возразил Полубесок. – Я могу позвонить. Не в деревне живём, наивный…телефония на проводе.
"А ведь правда! можно позвонить!"
Расследование приближалось к своему апогею. Николай Дмитриевич вскочил, обогнул два раза стол. Вариант с запиской казался ему выгоднее – текст можно было обдумать, исправить, отточить. Переписать с черновика набело, словно школьное сочинение.
С другой стороны, возникали тактические хлопоты, как записку доставить? Неизбежно формировались вопросы, почему записка? Почему не приехал лично? Не позвонил?
– А ты сумеешь? – усомнился Кока. Чача взвинтила ему нервы, натянула их до самых немыслимых пределов.
Теперь он казался себе режиссёром пьесы… пьесы забавной, местами глупой – её написал начинающий автор, – и которая держится на одном лишь только монологе:
"Быть или не быть?" – не меньше.
– Сумеешь вытянуть драматургию? Одно неверное слово, и Афина догадается!
– Согласен, она баба цепкая. Придётся постараться.
– Звони! – выкрикнул Кока, решившись. – Но только звени! Звени своим звонком! Ошеломи её доверием! Сомни и смети лживыми чувствами! Ты художник, наконец, или фотограф?
– Был художником… но под твоими воплями сомневаюсь.
– Прочь сомнения! Сотри её с лица земли своей правдивой ложью! Распыли обманом, своих правдивых чувств!
Николая Дмитриевича несло, он опьянел до корней волос.
Полубесок поднял трубку телефонного аппарата, набрал номер… говорил не форсируя, но выказывая интерес, будто грамотный покупатель, что обходит весь рынок дозором, прежде чем что-то купить:
– Я согласен, Афина… Верую… Давай попробуем вместе… любви до гроба не обещаю, но обещаю уважать твои чувства… Да, конечно. Всё, что я имею – твоё, включая талант. А ты?.. отлично, тогда я принимаю твои условия… Когда? Завтра?.. в двенадцать сорок? А ты успеешь купить билеты?.. Это неудобно, зачем, ты так утруждаешь себя?.. Хорошо, не станем спорить, я буду без опозданий… – и повесил трубку, не прощаясь… но как бы оставаясь на связи.
Это был талантливый артист.
А может ли добротный художник быть посредственным артистом?
***
"Прибавь, миленький! Прибавь ходу!"
За ночь Николай Дмитриевич даже глаз не сомкнул. Вертелся, скрипел пружинами, ходил на кухню пить воду. Долго стоял у окна, прислонившись горячечным лбом к прохладному стеклу. Поговаривал под нос фразы, стараясь подобрать сильные и убедительные. Утром предстояла встреча с лейтенантом милиции: представитель власти был необходим на финальной стадии, как воздух, иначе самому можно было попасть под статью о хулиганстве – Кока разумел положение вещей со всей очевидностью.
Времени оставалось впритык.
"Хорошо ещё, если лейтенант согласится… хорошо, если будет свободен… хорошо, если не опоздаем. Прибавь ходу, Орлик! Прибавь!"
К восьми утра Николай Дмитриевич прискакал в отделение милиции. Угодил в те заветные минуты, когда территорией властвует уборщица – женщина сбитая, деловитая, убеждённая в своей правоте. Мадам хотела прикрикнуть на гостя Ты-Мне-Тут-Наследишь, однако не решилась повышать голоса, когда рассмотрела его физиономию. Лицо Николая Дмитриевича, отдавая достоинство, производило на зрителей впечатление.
Лейтенанта искать не пришлось, он дежурил сегодня по графику. Только-только вернулся из санузла, в правой руке держал кружку с водой, левой раскручивал провод кипятильника.
– Вы должны мне помочь. Послушайте… послушайте, пожалуйста!
– Послушаем, – откликнулся милиционер, включил кипятильник в сеть. – Поможем.
Николай Дмитриевич напомнил о пропаже племянника, о заявлении Лиды, наскоро пересказал итоги своих изысканий.
– Теперь мы должны взять её с поличным! – выдохнул.
– Не кипятитесь, гражданин. Всё сделаем, согласно букве закона. – Лейтенант зашелестел пакетом, в пакете у него лежали пряники. – Что у вас с лицом?
Медлительность раздражала, Кока съязвил:
– Лекцию читал. О вреде пьянства.
– Вот это правильно. Однако аудитория, судя по приметам, попалась несговорчивая.
– Так точно, пришлось перейти от слов к делу.
– И это верно. Слова ценнее дел. То есть, наоборот, дела ценнее многократно.
– Послушайте! – Николай Дмитриевич вскинул ладони. – В двенадцать сорок у них поезд. Она уедет, и поминай, как звали.
– Ордер оформить всё равно не успеем.
– Да какой там ордер! О чём ты говоришь? Ехать надо немедля и брать! Лотерейный билет при ней, это я гарантирую!
– Билет-шмилет… – Лейтенант шумно и сочно потянул из кружки чаю, с видимым наслаждением. Не торопился он вовсе: ни мыслью, ни даже мизинцем. Милиционер привык жить среди людских неприятностей и боли, они не казались чем-то необычным, не волновали… во всяком случае, не будоражили, как Николая Дмитриевича. – Билет улика вялая, говорю на основании опыта.
– Как же вялая?! Да ты пойми, он однозначно указывает, что Афина виновата! Собирайся и поехали! Возьмём её прямо на вокзале!
– Не торопись. Что если она нашла билет? Так и заявит нам с тобой в лицо, мол, знать ничего не знаю… вела беседу с Аркадием Лакомовым, а потом нашла бумажку на полу. Может такое быть? Может. Что ты на это возразишь, Пинкертон? Между нами, Афина Леонидовна заслуженная артистка, положительно характеризуется коллегами по сцене. Участвует в общественной жизни. Вымпел недавно получила… и квартальную премию, не исключено.
Касательно премии, лейтенант сочинял, – ясно, как божий день, – просто хотел показать Коке, что голыми руками Афины не взять. "Да уж, конечно, – думал Кока, желваки на его щеках перекатывались. – Что есть, то есть… характеристики писать мы умеем. Почитай, дак изумишься! каждый бездельник, что ангел небесный… не бесный… на небе не бывает бесов, поэтому – небесный".
Вольно или невольно, лейтенант попал в "больное" место Кокиной теории. Ночью, у окна, вглядываясь в сутолоку городских бесполезных огней, Николай Дмитриевич подумал, что городской кошке не нужно зорких глаз: "Здесь лапы у елей дрожат навесу… и ночью всё видно… хоть иголки собирай".
Ещё подумалось, что без Алябьева дело не обошлось. Однозначно, Афина притянула его.
После премьеры была фуршетка – так заведено у актёров: они радостной толпой завалились в гримёрку прямо в костюмах и не умываясь… там была икра (меньшее Афина себе не позволяла) и шампанское. В бокал Аркашки она добавила димедрол – скорее всего… или нечто подобное. Парня повело.
"Алябьев должен был его убить. – Николай Дмитриевич вертел в уме всевозможные варианты, оставлять свидетеля в живых было глупо. – Афина сжигала за собою мосты. Приказала Алябьеву добыть билет любой ценой. Но муж ослушался. Ослушался сметливо, эдак… как и жил – наполовину. Убивать не стал, а саданул Аркашку по затылку, и оставил в подворотне".
– Допустим, – согласился лейтенант. – Допустим, ты прав. Но зачем Алябьев рассказал тебе про спектакль? Про участие Аркадия и про грим? Ведь он, фактически, вывел тебя на след.
– В том-то и дело… – Коке почудилось, что злость, а с нею и силы вытекают из него… словно воздух уходит из пробитой покрышки. – Подлость человеческая. Алябьев поступил, как гениально мудрая сволочь. Прошел вдоль стеночки, по привычке. Улик против него нет никаких. Димедрол добавлял не он. Как он Аркашку саданул никто не видел. Если всё обойдётся миром, ну… хорошо. Он свободен от Афины. А если мы… в смысле, милиция, заберёт её – тот же положительный результат.
Лейтенант колебался. Николай Дмитриевич ощущал его сомнения кожей, а потому пустил в ход последний аргумент:
– Поехали! Тебе будет раскрытое дело. Очередное звание получишь вне срока. Плюс от себя гарантирую благодарность… коллективную, от имени автобазы. С грамотой и занесением в личное дело. Поехали!
Лейтенант встал, начал собираться. Отметил, что Полубесок ему не нравится:
– Он сомнителен. Будь с ним осторожен.
Накинул на плечи портупею (к великой радости Николая Дмитриевича). Кликнул какого-то Шмидта, сказал, что выезжает на задержание. Шмидт выпалил стандартное "Ни пуха, ни пера, ни пули, ни ножа!" и обещал содействие: "Я на связи. Звони, если что".
К вокзалу подъехали на милицейском "уазике". Было двенадцать с четвертью. Николай Дмитриевич ёрзал, словно уж на сковородке, лейтенант растолковал план задержания:
– Главным делом, не суетись. Действовать будем чётко. Подождём, пока поезд тронется, это нужно, чтобы она вошла в вагон. Беготня по перрону меня не устраивает. В вагоне возьмём её… без шума и пыли.
– А если она спрыгнет?
– Афина? Никогда. Если ты верно описал её психологический портрет, она уедет. С любовником или без. Я проконтролирую машиниста, он тронется по моему сигналу. – Лейтенант вдруг сделался жёстким и несговорчивым. – Твоё дело подготовить Полубеска, чтобы он не выкинул фортель. Контролируй его. Когда поезд дёрнет и медленно поедет, вы должны показаться на платформе. Афина вас увидит, и…
– Понимаю. Мы с ней войдём в вагон.
– Именно. Дальше дело техники.
Однако Полубесок выкинул фортель. Притом такой, коего невозможно было предвидеть.
Всё же он был талантливым художником.
***
Пошел снежок.
Николай Дмитриевич подставил руку, удивился какие снежинки колючие и… серые.
Серое небо. Серый снег. Оглянулся вокруг: серые улицы, серые дома. Серые мысли спешащих сумеречных людей. И одно только алое пятно – инопланетные дурацкие гвоздики, по трояку за букет…
Но они появятся позже.
В голове состава, уперевшись рукою в тепловоз стоял лейтенант – Николай Дмитриевич видел его прекрасно. Видел, как милиционер, задрав голову, переговорил с машинистом, тот кивнул и шмыгнул вглубь своей машинерии.
Полубесок дотянул до последнего, явился по третьему звонку, как самый невежливый зритель, всего за пару минут до отправления. Кока едва узнал художника. На серую льняную рубаху он накинул коричневую болоньевую куртку, молнию не застегнул. На голове не было шапки, поверх чёрных кучерявых волос уже скопился снежок. Правую руку Полубесок держал в кармане куртки, карман оттопыривался, будто туда засунули апельсин.
В левой руке – дипломат. Чёрная прямоугольная коробочка с никелированными замочками и рукоятью.
"Зачем дипломат? – мелькнуло в мозгу Николая Дмитриевича. – Какой дипломат? Что за глупость?"
Вокзальные часы показали без двадцати – качнулась стрелка.
Николай Дмитриевич выступил из-за киоска, направился точно к цели, надеясь, что Полубесок подхватит его движение.
Так и получилось, Полубесок кивнул, давая понять, что видит Коку, и чуть подправил свой курс.
Восемь минут назад Афина ещё стояла у вагона (Кока подглядывал из-за киоска), пять минут назад поднялась по ступенькам. Время от времени она показывалась, шила глазами по сторонам, заметно нервничала.
Лейтенант дал машинисту сигнал – состав истерично дёрнулся и замер на бесконечное мгновение. Затем дёрнулся ещё раз и медленно задвигался – равнодушная стальная змея.
Николай Дмитриевич побледнел и удивился, что не издох прямо здесь и прямо сейчас от разрыва сердца – оно затрепетало где-то в глотке, у корня языка.







