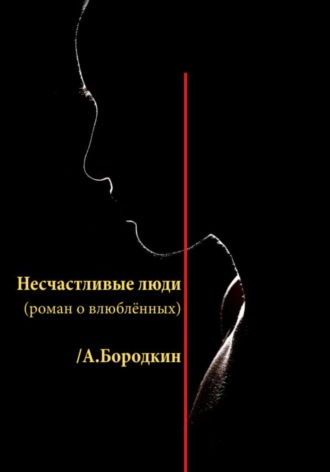
Алексей Петрович Бородкин
Несчастливые люди
– Металлом крытая, – усмехнулся. – Медь и сталь. Позапрошлый надёжный век.
В полусекундной паузе, художник ещё раз стрельнул зрачками на картину, сказал, что гость его утомил:
– Тебе не пора домой, дядя? Ты назойлив.
– Я уйду, – обещал Николай Дмитриевич. – Только расскажи по билет. Просто расскажи, чтобы я знал. Правду расскажи.
– Ах, ты боже мой! – огорчился Полубесок, опять закудахтал по карманам в поисках курева. – Я ж тебе уже говорил. Это шутка. Аркашка напился, лапал девчонок за талии. Как раз пришел Генка Легкоступов с полиграфкомбината, принёс кипу газет. Аркадий выкрикнул, что всех нас удивит, сказал, что у него лотерейный билет на десять тысяч.
– Допустим.
– Не перебивай— Полубесок погрозил пальцем. – Нервируешь.
Продолжил:
– В "Известиях" напечатали таблицу. Я взял у Аркашки его лотерейку, а самого отправил танцевать.
– Становится интересно.
– Ещё бы! – огрызнулся Полубесок. – Дальше не ухватываешь?
– Нет.
– Тогда поясняю. Лотерейный билет оканчивался на две восьмёрки. У Аркашки, понимаешь? Две восьмёрки! А в газете пропечатали две тройки. Оцени кульбит рока, насмешку судьбы!
– И что?
Полубесок выпил через край остатки бульона из кастрюльки. С тоской осмотрелся по сторонам.
– Вот не люблю я говорить людям грубости, дядя, но ты тупой. Унизительно тупой! Я взял перо и подправил! Чего же проще? Чего же боле, как говорил Пушкин. Из троек смастырил восьмёрки!
Николай Дмитриевич сказал, что такое невозможно.
– Невозможно? – художник усмехнулся. – Да, запросто. Я пять лет в театре афиши рисовал. Без линейки и без опоры нарисую тебе прямую линию – в струну! Без задоринки. Рука тверда, и танки наши быстры.
– А зачем?
– Ты про билет?
– Ага.
– Философские вопросы задаёшь! Во-первых, я пошутить хотел. Обрадовать. Взбодрить публику. Десять тысяч рублей всегда выглядят победоносно, согласись… и даже, если ты проигрался в пух на десять тысяч.
– Сомнительно. А во-вторых?
– Во-вторых?..
Полубесок вытряхнул из пакета горсть мёрзлых ягод – они бойко разбежались по столу. Одну из них художник поймал и приплюснул… из-под пальцев брызнула кровь.
– Когда я был молодым, я видел цель и не замечал препятствий. Двигался напролом.
Николай Дмитриевич согласился, сказал, что все молодые так поступали и поступают.
– Теперь я понимаю, что всякий "пролом" калечит судьбы… верно?… и меня это жмёт. На грудь давит. Вот возьми твой Аркашка… тысячу раз я ему говорил: радуйся! Радуйся, придурок! Радуйся, титька тараканья! Живёшь с Лидухой и радуйся! Чего ты рылом вертишь, словно закормленный поросёнок? Добротная ведь баба, покорная, нежная. Она ведь его любит, как святого, не надышится.
– Лидка?
– Ну, не я же! – огрызнулся художник. – Я подумал, что билет с деньгами он домой принесёт, как отец семейства, и… и что-то сдвинется… лёд меж ними растает.
– А он?
– Он!.. хм… он запал на Афину.
– А что Афина?
– А что Афина?
– Понятия не имею, у тебя спрашиваю.
– Афине он нужен, не более, чем рыбе зонтик, – ответил Полубесок. – Если хочешь, поговори с ней. Она в ТЮЗе работает. Прима. Прима! Не фунт изюму.
Полубесок опять, будто в забытьи, охлопал карманы, от картины перевёл взгляд за сумеречное окно, притих… Потом вдруг вернул своё внимание собеседнику, заговорил с неожиданным жаром:
– Ты послушай вот что. Как думаешь, куда он побежал? Не за молоком, не за квасом, не винишка побёг купить, а куда? Какая сила его влечёт?
Николай Дмитриевич слегка опешил, обнаруживая в глазах собеседника неожиданную совершеннейшую безумь… коя бывает в глазах шизофреников, например… или… или… а других душевнобольных Николай Дмитриевич не встречал.
– Я не знаю, – ответил медленно, с расстановкой, – видимо бежит в Миру такой-то невидимый поток… – проговаривал, стараясь попасть в настроение художника, – который несёт нас и толкает на поступки.
– Я тоже так думаю! – согласился Полубесок. – Возьмём Афину, вообрази себе яркий персонаж! Женщина! Фемина! Во всех смыслах приличной наружности. Завистливой…. в смысле, вызывающей зависть. А характер – стервозный.
– А какая баба не стервозна? – взвился Николай Дмитриевич. – Нет, ты назови! ты встречал такую? Вообрази, моя…
Полубесок перебил:
– Не тарахти, бесхозный, слушай ухом! Мы не столица, допускаю. Славы маловато, касса – пшик! И не Париж, знаешь, тоже, будь он неладен… но ведь не хлебом единым! Она в театре прима! Режиссёры столичные ноги моют и воду пьют! Что ещё нужно для счастья?
– Не знаю, – ответил Николай Дмитриевич. – Сам задаюсь таким вопросом.
– И я не знаю…
В дверях, Николай Дмитриевич протянул для рукопожатия руку, Полубесок пожал её без энтузиазма, гуляя взглядом по сторонам, будто расстроился.
Тогда Николай Дмитриевич, чувствуя этот холодок, осторожно попросил:
– Ты это… не держи зла… я ж не хотел обидеть.
– Ступай с миром.
– Ещё один вопрос… самый последний. Кто знал, что ты билет надписал? В смысле, таблицу?
– Все знали, – Полубесок удивился. – Я ж не скрывал. И Федька видел, и Пахель… а Павлик просто догадался… у него работа такая обо всём догадываться.
– Он на автомойке работает, верно?
– В химчистке, – поправил Полубесок. – Ему пять лет светит, как нам с тобой солнце. Под следствием он, и подписку давал… ан, живёт себе, припеваючи… что значит, позитивный человечек. Учись, дядя. А Афине не верь. Не верь. Ты же пойдёшь к ней, верно я разумею? Она тебя в дугу согнёт в два счёта. Станет про ум говорить – не верь. И про правое сердце – брехня! Я видел её рентгеновские снимки – обычная баба…
***
Надвинулись сумерки, городской народец потихоньку засуетился. Троллейбусы и автобусы не казались более пустыми спичечными коробками. Наступало время, которого Николай Дмитриевич категорически не любил: зима, истоптанный грязный снег… в небесах провисла серая половая тряпка…
Справедливости ради, в районе бывают точно такие же дни… но там тряпка остаётся тряпкой, снежная жижа под ногами – всего лишь жижа… и "ничего подобного". И если бабка движется в магазин вдоль дороги, то это просто бабка… старуха без малейшего апломба.
В городе в серый кисель сумерек всякий вечер опускают цветные лампочки – гирлянды, огоньки афиш, витрины магазинов. Машины начинают светиться фарами… Но всем этим ярким светлячкам требуется время… и неожиданная помощь ночи: ночь убивает серость, в её угольном контрасте гирлянды начинают смотреться нахально.
Нахальство Николай Дмитриевич любил:
"Нахальный человек живёт, и умирает", – говорил он.
"И в чём разница? – уточняли коллеги. – Естественный путь".
"Путь-то естественный, – откликался Николай Дмитриевич. – Качество разное: живёт энергично, умирает легко".
Перед театром стояла ёлка. Николай Дмитриевич механически отметил её высоту – метров в шесть или восемь – подумал. Подумал, что директору она стоила ненужных хлопот.
Ветви были наряжены персонажами из "Щелкунчика" – синеокими принцессами, слонами, мартышками в красных чепчиках, – всего этого богатства Николай Дмитриевич не заметил… равно, как не ухватил музыки Чайковского – она украшала собой пространство.
Скользнул мимо ели, приблизился к парадному. Поискал глазами веник, чтобы стряхнуть с галош грязное – веника не обнаружил. Вместо него вдоль ступеней прохаживались кавалергарды в костюмах мышей. Зубастые переростки, с длинными неприятно-правдоподобными алебардами.
"Ах, ты господи боже мой! – подумал Кока звонко. – За что напасть такая на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и театров наплодил!"
Кока (Кокою звала Николая Дмитриевича мама, мир её праху) вошел в двери, дивясь их дубовой мощи и высоте, осмотрелся… решил, что не так всё сумрачно вблизи: "Ну, театр, ну, юного зрителя… что тут удивительного?.. здесь может тоже люди работают… и тоже, небось, на окладах".
Через вестибюль целенаправленно передвигался рабочий. Нёс лестницу и явственно к чему-то стремился – полы халата развевались, словно шарфик Айседоры Дункан. Кока привлёк внимание служки дружественным жестом, вполголоса попросил найти Афину Завьялову.
– А чего её искать? – удивился рабочий, не поддержав интима вопроса. – Вон она, присутствует в непосредственной близости. Товарищ Завьялова! – окликнул на полных лёгких. – Вас здесь мужчина из района ожидает. Сможете подойти или отказать ему в аудиенции?
Николай Дмитриевич покраснел до кончиков ушей, подумал: "Вот же скотина! Чудак на букву мэ! Обозначил помоями с ног до головы!"
Цокая каблучками, подошла Завьялова. Застрекотала:
– Слушаю вас. Что вы хотели? Вы из детского сада касательно утренника?
– Нет… касательно… утренника…. – Николай Дмитриевич мотнул головою, отрицая свою причастность к детскому пастбищу, пятернёй стянул шапку, сконфузился, что седеет. – В принципе, я…
– Вы только не мычите, товарищ. Не тратьте моего времени. Через полчаса у меня запись фонограммы, я должна отдохнуть.
Интонация Завьяловой была проходной, серой, словно утоптанный снег. С таким выражением в магазине картошку выбирают, не слишком мелкую, но и не крупную – среднюю. Серость задела Николая Дмитриевича.
Придавая словам достоинство, он выговорил:
– Мне нужно задать вам несколько вопросов, касательно Аркадия Лакомова.
– А что с ним?
– Он пропал.
– Пропал? – удивилась Завьялова. – Зачем? Куда? А вы ему кто?
– Я из милиции, – соврал Николай Дмитриевич, моментально прикинув, что на запрос показать удостоверение, откликнется, будто оно в управлении, его продляют: "Можете позвонить и уточнить мои полномочия". Слово "полномочия" всегда успокаивало, Кока знал это по личному опыту.
Завьялова подняла брови… замерла на половину такта… в глазах появились растерянность и чёрточка тревоги… тем не менее, взгляд задержался на собственном отражении – рядом висело зеркало от пола до бесконечного потолка.
– Прекрасно! – проговорила она с неожиданным ударением. – Я знала, что этим закончится! Спрашивайте!
– Мы не могли бы… – Николай Дмитриевич крутанул пальцем (жест приметил в кино), хотел сказать, что чашечка кофе будет к месту.
– Как это скучно! – перебила Завьялова. – Кабинет, кофе. Давайте лучше я покажу вам театр. Вы ведь у нас впервые?
– Впервые, – согласился Николай Дмитриевич. – Хотя в театрах бывал. Даже в Большом, представьте.
"Снаружи", – добавил мысленно.
– Тогда вам будет интересно.
Завьялова повела от гардероба (вешалки, с которой начинается театр), через холл с колонами и бюстами, через вытянутый зал с "пятном" откидных кресел – здесь разместились два концертных рояля, едва касаясь друг дружки "носами": "На них играют Штрауса и ноктюрны Шопена. А сидячих мест специально немного, чтобы сохранить пространство – публика здесь вальсирует", далее через галерею с фотографиями, вдоль бесконечных коридоров, по всей топографии театра.
Временами Афина вскидывала красивую руку в красивом жесте и красивым поставленным голосом сообщала:
– Вот посмотрите, фотография Немировича-Данченко… он ставил в нашем театре пьесу Шекспира… вы ведь знаете, кто такой Немирович-Данченко? Да? Удивительно… – Поддевала умело, отточено-женски. Обижала, но повода обидеться не давала, ведь невозможно было утверждать наверняка, чему именно мадам удивлялась… вашему ли скудоумию, ли, что Владимир Иванович посетил губернский театр и даже поставил в нём "Шекспира". – А это Марлен Хуциев, ни боже мой, он приезжал к нам в театр адресно, набирал артистов для своего нового фильма… вы не могли не видеть этого кино. Видели? Едва ли… а жаль…
Николай Дмитриевич подумывал, что хорошо бы осадить дамочку резко… посадить её в лужу, со всеми её театральными пафистосами. Как зарвавшегося водителя-дальнобойщика.
Что-то мешало.
"Краля хороша! – признавал Кока. – Вне сомнений. Недаром Аркашка на неё запал… он всегда был падок на пёстрое и яркое… фу ты чорт! подумал о человеке в прошедшем времени! Да жив он! Жив! С чего бы ему сгинуть?!"
И далее:
"Но ты возьми вот что: она тебя ошеломила, не нужно отрицать очевидное. Заметь, ошеломила походя, не добиваясь цели и не прикладывая усилий… ты ей не нужен, но подцепила… а это стыдно… тебе без малого полтинник, а дрогнул, как сопляк. Она заметила, что ошеломила, усмехнулась… а ты, дурак, нет, чтобы скрыть промашку, так распахнул хлебало. Теперь и она знает… и ты знаешь, и она знает. И она знает, что ты знаешь".
– Послушайте! – Николай Дмитриевич решился на хитрость, придумал пойти на уступки, чтобы не проиграть сражения. – Я очарован вашим театром, вашей эрудицией и вашими гостями – они великолепны. Но случилось худое, пропал мой племя… пропал гражданин Лакомов. И данные, извините, весьма нехорошие.
– Он убит? – резко спросила Завьялова.
– Почему убит? – опешил Николай Дмитриевич. – Жив он… чего ему сделается?
Завьялова пожала плечами:
– Вы сказали, пропал…
– Пропал и убит – не одно и то же. Не путайте меня, гражданка. Вы когда видели Аркадия в последний раз?
Она задумалась. Николай Дмитриевич имел возможность рассмотреть Завьялову ближе.
Среднего роста, стройная: "Нижний мост неплох, и бюст имеется… ничего сверхъестественного, хотя…"
Жизнь учила Николая Дмитриевича, что женщины встречаются двух типов. Бывают красивые… привлекательные… умные и домовитые, но – чего-то им не хватает. С такими уютно бывает провести ночь и прожить неделю… даже месяц – такое случается в практике. Потом с ними устаёшь. Почему? Кажется странным, меж тем, изнашиваешься от недостатка.
Парадокс?
Парадокс…
Жизнь полна парадоксов.
Второй тип, это женщины обыкновенные. Они не слишком хорошо готовят, Привычно-Как-Все одеваются (хотя стараются отличиться), исправно посещают косметические салоны (зачем? непонятно, видимо, чтобы не отставать). Женщины этого типа не навевают подспудных мыслей о Софи Лорен…
Они никогда не прыгнут выше головы, и даже не пытаются прыгать. Но что-то в них есть.
Изюминка.
С ними бывает интересно… в том смысле, что покуда выколупываешь эту "изюминку", проходят годы… привыкаешь. А привычка… про привычку лучше всего сказал Александр Сергеевич: Привычка свыше нам дана, замена счастию она!
Афина неспешным, устало-выверенным шагом двинулась вдоль коридора. Коридор, надо признать, производил впечатление: высокие потолки, ненавязчиво-зелёное оформление, панели в три четверти роста… на одной дубовой панели наметилась трещина от сучка, Кока коснулся её кончиками пальцев – в средней школе он занимался резьбой, с той поры фактура породистого дерева заставляла его трепетать.
– Встречались давно, – Завьялова посматривала на Николая Дмитриевича. Но не постоянно, стреляла маячками, как стробоскоп. – Кажется давно… или недавно… у нас сейчас утренники, вы учитывайте. Время смешалось. Как у Лермонтова, в "Бородино" припомните: смешалось время, люди, кони. Я даже не скажу, когда точно виделись. – Тронула пальцами виски. – И какое это имеет значение? Вам надо проверить Полубеска. Степан Полубесок легко мог убить Аркадия.
– Убить? – переспросил Николай Дмитриевич. – Степан? Почему вы так думаете?
– Вы видели его руки? – Афина развернулась, сложила ладони чашею, заглянула в них. —Такими руками можно задавить телёнка.
– Наверное, – осторожно согласился Кока. – Но зачем?
– Что, зачем?
– Зачем ему убивать лучшего друга? Тем более телёнка.
– Лучшего друга?! – удивлению Завьяловой не было границ. – Да они люто ненавидели друг друга!
Дала паузу, ожидая реакции "сыщика".
"Сыщик" смешался и молчал. Пробурчал "гм-м", потёр лоб.
– Из вашей реакции заключаю, что вам неизвестна та история, – проговорила Афина. – И вы не знаете, что Полубесок был с женой Аркадия.
– С Лидией? – теперь удивился Николай Дмитриевич.
– С Лидией.
Николай Дмитриевич уточнил, что значит "был". Завьялова вытянула указательные пальцы и потыкала ими друг в дружку, не оставляя вариантов. Тогда Николай Дмитриевич попросил прояснить обстоятельства.
История не отличалась оригинальностью. Молодые люди собрались отпраздновать начало весны, заготовили вина и мяса, отправились на берег реки. Компания самая дружная: Аркадий с Лидией, Степан Полубесок с Мариной…
– Был ещё кто-то из типографии, – Завьялова перечисляла, – и этот ещё неприятный хмырь с магнитофоном. Я никогда его не любила.
– Во-первых, кто такая Марина, – уточнил Николай Дмитриевич. – Во-вторых, когда именно это произошло?
– Во-первых, не перебивайте, это невежливо. Во-вторых, я сама вам всё расскажу. Это произошло пять… или семь лет тому. Марина – это натурщица, девушка, не лишённая привлекательности, однако личность мелкая и склочная. Стёпка писал её портрет, а перед этим она позировала ему для афиши фильма… между нами, потаскуха она первостатейная.
Николай Дмитриевич отметил грубое слово – неожиданно грубое – и смену интонации.
– В плане культурных мероприятий, ничего интересного не было. Основная забава, это купание Полубеска – он нырял в ледяную воду, распихивал льдины и плавал. Ещё танцы под "Аббу" и шашлыки.
– Кто жарил мясо? – спросил Николай Дмитриевич.
– Геннадий Легкоступов. У него родственники в Таджикистане, они присылают ему специи.
– Ну и?
– Что, ну и?
Николай Дмитриевич повторил жест указательных пальцев Афины.
– Ах, вы об этом! – Афина глубоко вздохнула. – Степан с Маринкой поругались, она немедленно уехала. Потом Стёпка напился, и… вот.
– А что делал Аркадий?
– Он спал.
– Понятно, – проговорил Николай Дмитриевич.
Хотя ничего понятно не было. Ничего не прояснялось. Более того, дело путалось и вязло. Напоминало верёвочный клубок, когда тянешь за одну петельку, надеясь упростить "проблему", а вместо кончика вытягиваешь неожиданный узел… и понимаешь, что лишь только туже всё затянул.
– А вы? – спросил. – Что делали вы?
Завьялова сверкнула очами. Отказаться было невозможным, слишком много деталей она сообщила. Тогда она проговорила:
– Я значительно умнее, чем это нужно для счастья. Я покинула компанию засветло… мой удел – сцена. Я служу Мельпомене, и глупые человеческие игры не для меня. Уж простите!
"Э-нет! Шалишь, брат… в смысле, сестра! Лукавишь!" – злился Кока.
Завьялова распрощалась с ним, напомнив, что у неё вот-вот должна начаться запись: "Режиссёр будет записывать фонограмму. Мои голосовые связки должны отдохнуть, голубчик!"
"Непременно!" – поклонился Николай Дмитриевич.
Он передвигался по тенистым кулуарам театра, нащупывая выход, а в большей степени, давая себе время для размышлений:
"Никуда ты не убежала с того пляжа, актриса, ты всё видела, смотрела во все глаза… Но зачем? Зачем ты рассказала мне? Сплетничала?.. – Становилось смешно, потом, без перехода, грустно. – А ведь она права, Полубесок мог придушить Аркашку запросто… не в том смысле, что убил, а защищаясь… первым полез, понятное дело, Аркашка, выпил для храбрости и полез мстить за жонкину честь, дурачок… ага, допускаю, семь лет спустя решился на возмездие! Семь лет! – Мысли толкись в голове, напоминая голубей, которым кинули пригоршню проса. – А хотя бы и семь… почему нет?.. дело чести не имеет срока давности. Случилась драка, Полубесок удавил конкурента, а теперь строит из себя невинность…"
Вслух Кока передразнил художника:
– Куда он побежал? Не за молоком ли? не за квасом? не винишка ли побёг купить?!
Вдруг неожиданная на себя досада:
"Фу ты, господи! О билете не расспросил, разиня!.. – Афине следовало задать вопрос о лотерейке непременно. С другой стороны: – А что бы это поменяло? Ничего! Афина дышит и врёт… врёт и дышит… правды для этой женщины не существует вовсе, как нет для неё и лжи – существует лишь только её трактовка и неправильная. Восхитительная женщина! Мечта поэта!"
Мировоззрение Николая Дмитриевича лопнуло… в смысле, дало трещину… в смысле, в ранжировании женщин на "что-то есть" и "чего-то не хватает" появилась третья уникальная категория – Афина Завьялова.
Кока остановился и вытянул руку – он опять оказался возле дубового сучка. Значит, он ходил кругами. Завьялова водила его за нос.
"Мы трижды прошли мимо её гримёрки, однако внутрь она не пригласила".
В это мгновение Николай Дмитриевич остро пожалел, что втянулся. Опыт подсказывал, что поток лжи только начался: "А я под ним верчусь, напоминая школьника под дождём, – ухмыльнулся. – Когда влюблённый дуралей ждёт свою пассию. С другой стороны, иначе бы я не познакомился с Афиной".
Завьялова не вписывалась в схему. Была исключением. Ей очевидно нравилось быть женщиной, нравилось влиять на противоположный пол и соблазнять, но – и в этом таилась исключительная загадка! – она хотела быть мужчиной! Мужчиной, чтобы повелевать и владычествовать напрямую, без посредников.
"Внутри неё стоит добротный турбированный движок, – размышлял Николай Дмитриевич, – однако коробка передач и рулевое управление нехороши".
Ещё подумал, что кабы годков было меньше, так увлёкся бы Афиной с головою… со страстью, с цветами и гитарой под балконом… а теперь? теперь токмо заунывная мысль:
"Несётся она куда и как попало. Без царя в голове живёт. Кабы ей мужа авторитетного бог послал, вроде меня, чтобы тот взнуздал, растолковал что почём… ан время от времени и фингал поставил… так нет такого мОлодца… пропадёт баба попусту, а жаль".
В преисподней театра что-то треснуло, будто разорвали простыню, следом заиграл оркестр – его не было слышно в полной мере, однако звуки духовых доносились: геликон волновал атмосферу, звуки литавров делили пространство на доли.
"Фонограмму пишут, – сообразил Николай Дмитриевич. – Пошла запись".
– Здравствуйте! – проговорило откуда-то сбоку, притом таким неожиданным и ласковым тоном, что Кока отпрянул и поднял кулаки.
– И тебе… здравствуй, – ответил, – незнакомец. Если ты не призрак.
Из-за портьеры, из закоулков драпировки (так показалось), на самом деле из дверей с биркой "Администрация" появился человек. Человек в высшей степени непримечательный. Среднего роста, не широкий, не тощий… Николай Дмитриевич обежал его глазами и подумал, что мужчине лет чуть больше шестидесяти… однако ни щетины на лице нет… нет и седины в волосах, даже роскошного серебряного локона (о котором мечтают щёголи) – нет. Шатен, примятый возрастом и бытом.







