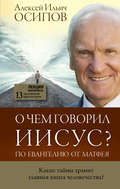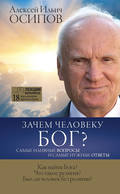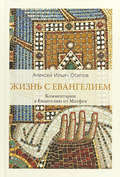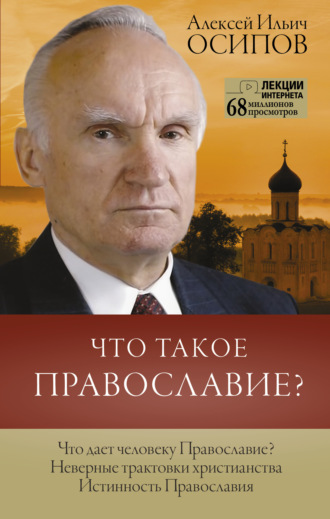
Алексей Осипов
Что такое Православие?
Раздел II. Возможности человеческого познания
И наука, и философия по этому вопросу приходят к однозначно пессимистическому выводу.
§ 1. Наука
Крупнейшие ученые мира заявляют о принципиальной ограниченности человеческого разума и невозможности не только достоверного познания мира, но даже и способов установления этой достоверности. Вот несколько высказываний ученых.
А. ЭЙНШТЕЙН (†1955): «В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов.… Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма… но он… никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения»[51].
Р. ФЕЙНМАН (†1991): «… наука недостоверна… а если вы думали, что наука достоверна, – вы ошибались»[52].
В. ГЕЙЗЕНБЕРГ (†1976): «Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования… Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания»[53].
Р. ОППЕНГЕЙМЕР (†1967): «Я имел возможность проконсультироваться с сорока физиками-теоретиками… Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана»[54].
Наука постоянно сталкивается с «абсурдами» в изучаемом мире – с теми явлениями, которые не вписываются в привычные рамки нашего обычного опыта, устоявшейся системы мысли, здравого смысла.
Приведем несколько иллюстраций таких «абсурдов» в познании этого земного мира.
Вот как, например, описывает «поведение» электрона известный физик, создатель первой атомной бомбы Р. ОППЕНГЕЙМЕР: «Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать «нет»; если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет»; если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет»; если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет»[55].
Современный физик Ф. КАПРА пишет: «На уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны, причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, иногда – свойства волны»[56]. Н. Бор назвал эту странность микромира принципом дополнительности. Англоязычные ученые – одним словом: «вейвикл» (wavicle – от английских слов «wave» – волна и «particle» – частица).
Д. УИЛЕР писал: «Самое важное в квантовом принципе это то, что он разрушает представление о мире, «бытующем вовне», когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком… Для того чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник»[57].
Именно в силу такой «абсурдности» многих новых открытий они первоначально были отвергнуты как ересь. Такова была судьба, например, идей Галилея, Коперника, Пастера. Как лженаука была встречена генетика, со скепсисом – теория относительности, квантовая механика[58].
Академик Л. ЛАНДАУ (†1968) писал: «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время – единое для всей вселенной, для всех движущихся систем. Она казалась безумной большинству исследователей. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее «дикими» идеями»[59].
Сильнейший удар по надеждам найти абсолютные критерии истинности человеческого познания нанес К. ГЁДЕЛЬ (†1978) своей теоремой о неполноте формальных систем. Этой теоремой он показал, что непротиворечивость достаточно богатой теории не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории[60].
В коллективном труде отечественных философов «Логика научного исследования» читаем: «В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки – математики – «нестрогие» положения, после длительной и упорной борьбы, вынуждены были прийти и «логицисты»…
Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания»[61].
Коль скоро такие проблемы присущи математике, то об абсолютной истинности или ложности других наук тем более говорить невозможно.
§ 2. Философия
К таким же выводам приходит и философская мысль.
Почему глубокое сомнение вызывает философский метод искания истины? В первую очередь потому, что этот метод по своей сути является чисто рациональным, включающим в себя известную логику (суждения) и определенный понятийный аппарат, что делает философию формальной системой. Но если логика – вещь чисто инструментальная и бесстрастная, то с понятиями дело обстоит несравненно сложнее.
Не касаясь проблемы «универсалий», можно констатировать следующий факт. Философия пользуется языком, который является отражением нашей деятельности. Поэтому если даже принять, что существуют априорные понятия, то они как порождения нашего ограниченного сознания оказались бы беспредметными и потому «неработающими». То есть все философские построения и системы полностью ограничены бытием и языком нашего четырехмерного пространства-времени. И следовательно, невозможно передать информацию о реальности, выходящей за пределы нашего четырехмерного мира, ввиду отсутствия соответствующих слов-понятий. Апостол Павел так и писал: И знаю о таком человеке… что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2Кор. 12: 3–4).
Эта принципиальная ограниченность философии усугубляется еще и тем, что все слова-понятия (кроме математических абстракций) очень неопределенны. В силу этого их использование не дает возможности делать логически однозначные выводы. В. ГЕЙЗЕНБЕРГ в связи с этим, приходит к пренеприятному для философии заключению. Он пишет: «Значения всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены… Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине»[62].
Оба эти высказывания, как видим, говорят, по существу, об одном и том же: истина, как бы мы ее ни называли, невыразима с помощью слов. Тем более невозможно с помощью понятий трехмерного мира адекватно описать реалии мира n-мерного, или без-мерного, в котором совершенно иные время и пространство. А бытие может быть именно таково? К тому же философия, ставя вопрос об истинности познания, осуществляемого в ее недрах, оказывается в заколдованном круге. Она не может доказать свою истинность, так как в принципе не способна выйти за пределы той рационально-эмпирической данности, которая очерчена кругом ее логико-понятийного аппарата. Фактически к этому выводу философия и пришла в своем историческом развитии, исследуя проблему бытия.
Интересно сопоставить мысль современного ученого и мыслителя Гейзенберга с высказыванием христианского подвижника, жившего тысячелетием раньше, не знавшего ни современного естествознания, ни квантовой механики, – преподобного СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА: «Я… оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия, и вещи, и слова и думают, что изображают Божественное естество, то естество, которого никто из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать»[63].
Отечественный физик Б. АХЛИБИНСКИЙ подводит итог возможностям научно-философского познания: «Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания»[64].
§ 3. Богопознание
Если столь несовершенны рациональные возможности человека в познании этого мира, то тем более они недостаточны в отношении Бога. Однозначно говорят об этом святые отцы.
Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ: «…не может Он быть объемлем ни именованием, ни помышлением, ни иною какою постигающею силою ума»[65].
Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ писал: «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают Божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать»[66]. То есть все слова о Боге всегда условны, относительны. Он в Своем существе непознаваем и невыразим. Он есть про́стое Существо. А «первоначала, – говорил еще древний ПЛАТОН, – не поддаются определению»[67].
Бог познается не словом и логикой, а опытом непосредственного внутреннего созерцания, осуществляемого в молчании всех чувств и движений ума – целостным существом человека. Святой ИСААК СИРИН говорил: «Молчание есть тайна будущего века, а слова суть орудие этого мира»[68]. Слова же, как в науке, так и в религии, являются лишь теми вехами, ориентирами, которые указывают направление мысли и деятельности, но не могут выразить саму жизнь.
Однако закрытость Бога для человека не абсолютна. Бог открывается в Своих энергиях, действиях, и через них опосредованно становится «видимым». Поэтому в богословии принято различать два метода описания Бога – апофатический и катафатический и два пути Его познания – рациональный (научный) и духовно-опытный.
Апофатический (греч. ἀpofatikoj – отрицательный) метод исходит из принципиальной отличности Бога от всего сотворенного и потому говорит о невозможности выразить Его в каких-либо наших понятиях, невозможности «определения» Бога и именования каких-либо Его свойств. Апофатизм верен, когда речь идет о познании сущности Бога.
Однако Бог не является замкнутой монадой, Он действует, и Его действия (энергии) дают возможность определенного знания о Боге. Это и подчеркивает катафатический (греч. katafatikoj – утвердительный) подход. Потому можно утверждать, что Бог есть Дух, Разум, Творец, Бытие, Правда, Судья, Промыслитель и т. д. Все эти понятия – человеческие (антропоморфические) и в силу этого несут на себе печать человеческой ограниченности.
Но, как верно заметил немецкий философ Ф.Г. ЯКО́БИ (†1819), мы потому антропоморфизируем Бога, что Он, создавая нас, теоморфизировал. То есть в силу того, что человек является образом Бога, можно в определенной степени говорить и о Его свойствах, указанных в Откровении. Таким образом, человек познает, что есть добро, истина, правда, красота, а что – зло, заблуждение, ложь, безобразие и т. д. И эти характеристики в конечном счете становятся теми нравственными и духовными указателями, следуя которым в своей жизни человек может опытно постигать Бога.
Катафатический метод описания Бога – это способ теоретического (т. н. научного), или «умового», как говорил свт. Феофан (Говоров) познания Бога. Однако такое внешнее изучение не приобщает человека Богу, ибо и бесы веруют, и трепещут (Иак. 2: 19). Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) так писал об этом: одно «учение по букве сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно, в сущности, может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии! Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человеческих»[69].
Поэтому в одном из своих писем он восклицает: «Сбывается слово Христово: в последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле! Науки есть. Академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия (право – смех, да и только), эти степени даются людям… (А) случись с этим богословом какая напасть – и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких: доктор богословия, а сомневается, были ли на земле Христос, не выдумка ли это, не быль ли, подобно мифологической! Какого света ожидать от этой тьмы?»[70].
Замечательное высказывание об умовом познании Бога находим у преподобного СЕРАФИМА САРОВСКОГО: «Мы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к вере святой в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его Божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят: это место непонятно, потому что неужели Апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли. Тут нет ли де ошибки. Не было и нет никакой… Это все произошло оттого, что, мало-помалу удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобопонятным, о чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным»[71].
Поэтому только духовно-опытный путь дает истинное познание, живое переживание Бога. Это богопознание приобретается в подвиге правильной христианской жизни, очищающей душу от страстей. Ибо Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5: 8).
§ 4. Духовно-опытный путь богопознания
Богопознание осуществляется только на правильном духовном пути. Но что такое духовность? Это не нравственность, которая говорит о внешнем поведении и поступках человека и потому очевидна. Духовность человека – это внутренний, невидимый мир: мировоззрение, смысл жизни, первостепенные ценности. Это может быть алчность, карьеризм, тщеславие, гордыня – всё то, что христианство называет греховными страстями души и тела и выражено словами мiр[72] мамо́на. О последствиях порабощенности этим страстям апостол писал: Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом (Гал. 5: 15).
Однако человек может жить и исканием истины, стремлением к честности в жизни, справедливости, чистоте мыслей и чувств.
В Православии под духовностью понимается не просто нравственная чистота, но нечто большее – то благодатное состояние верующего, которое апостол Павел наделяет плодами Духа Божьего: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22–23). Эти плоды приобретаются жизнью по заповедям Евангелия в покаянии, смирением и постоянным молитвенным обращением к Господу Иисусу Христу.
Вот некоторые из основных положений, относящихся к духовной жизни в Православии.
Первое. Духовная жизнь в Православии невозможна без осознания человеком, что он в настоящем своем моральном и душевном состоянии совсем не тот, совсем не свят и чист, каким должен быть. Ибо пока человек, как писал Пушкин, «всегда доволен сам собой, своим обедом и женой», ни о каком духовном развитии речь не может идти.
Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: «Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собой, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных?»[73]. «Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения: от такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния»[74].
Второе – все добродетели и подвиги необходимы для познания себя, то есть познания той поврежденности, в которой находится человек, и через это – приобретение смирения, а не каких-то заслуг перед Богом, за которые человек будто получает спасение. Только смирение является основой правильной духовной жизни и условием спасения.
Подвиг, не приводящий к ви́дению своей греховности, является лжеподвигом, а духовная жизнь без такого ви́дения – лжедуховной. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, предупреждал: Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться (2Тим. 2: 5). Святой ИСААК СИРИН говорит об этом более определенно: «Пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение… Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны»[75].
Как приобретается такое познание? Оно возможно только при твердой решимости жить по заповедям Евангелия. Она позволяет человеку увидеть, насколько он духовно болен и неспособен самостоятельно исцелиться от своих страстей: самомнения, тщеславия, зависти, лукавства, осуждения и проч. Как писал преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ: «Строгое исполнение заповедей научает людей глубокому сознанию своей немощности»[76]. Это опытное познание своей немощи является основой всей духовной жизни человека. Святой ИСААК СИРИН писал: «Блажен человек, который позна́ет немощь свою, потому что ве́дение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни»[77]. Это познание именуется у святых отцов смирением.
Смирение есть то внутреннее состояние, которое не позволит человеку, когда он получит величайшую славу в Царстве Небесном, отпасть вновь, повторив грех прародителей. Ибо, как писал игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ), «можно и из гордости исполнять почти все заповеди и быть врагом Бога»[78].
Третье. Высшая добродетель – любовь. Она, естественно, имеет разные степени. Первая и общая для всех ступень заключается в том, чтобы никому не делать и не желать зла и ко всем, даже к врагам, относиться справедливо. Но она возникает не путем искусственного ее возбуждения в себе (как это ярко проявляется у католических аскетов), а по мере борьбы со своим эгоизмом и самолюбием. Она достигается, становясь глубоким чувством, в результате подвига искоренения страстей и достижения смирения.
Святой ИСААК СИРИН писал: «Нет способа возбудиться в душе Божественной любви… если она не препобедила страстей»[79].
Святитель ТИХОН ЗАДОНСКИЙ даже так писал: «Если высшая из добродетелей, любовь, по слову апостола, долготерпит, не завидует, не превозносится, не раздражается, николиже отпадает, то это потому, что ее поддерживает и ей споспешествует смирение»[80].
Этим учением о смирении как безусловно необходимом свойстве нового человека (Еф. 2: 15; 4: 24) Православие принципиально отличается от всех других религий и конфессий, в которых спасение зарабатывается делами и жертвами (например, в католицизме с его учением о заслугах) при минимальном обращении внимания на внутренний мир души.
Четвёртое. Любовь приобретается постепенно при правильной духовной жизни и по твёрдым духовным законам.
Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) указывает, в частности, на закон последовательности борьбы со страстями: «Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей; таковы: объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Последствия их: сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей: последствия их будут уничтожаться сами собой»[81].
И предупреждает: «По непреложному закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам»[82].
Преподобный ПЕТР ДАМАСКИН писал: «Когда ум начнет зреть согрешения свои, множеством подобные песку морскому, то это служит началом просвещения души и знаком ее здравия»[83].
Пятое. Невозможно приобретение даже начальной любви без правильной молитвы. Преподобный ИЛИЯ ПРЕСВИТЕР писал: «Кто не с вниманием молится, но рассеивается в молитве, из такого бесы устрояют посмешище»[84]. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): «Без внимания молитва – не молитва. Она мертва! Она – бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие!»[85]. «Душа молитвы – внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания – мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие всуе»[86].
См. подробнее Приложение № 1: Краткий обзор основных положений учения святителя Игнатия (Брянчанинова) о духовной жизни.
ЛИТЕРАТУРА
Апраксин, врач. Аскетизм и монашество. Евангельские, биологические и психологические их основания. Киев, 1907.
Аскетические творения святых Отцов (напр.: Добротолюбие. Т. I–V; Игнатий Брянчанинов, еп. Отечник. СПб., 1903. Твор. Т. I–V. СПб., 1905. Собрание писем. М.-СПб., 1995; Иоанн, преп. Лествица. М., 1873; Исаак Сирин, св. Слова подвижнические. М., 1858; Симеон Новый Богослов, преп. Слова. М., 1892).
Ахлибинский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития. Л., 1963.
Булгаков С. Свет Невечерний. Сергиев Посад, 1917.
Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963.
Григорий Богослов, свт. Слова о богословии. //Творения Т. 1. Изд. Сойкина. СПб., 1912.
Зарин С. М., проф. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т.1. СПб., 1907 (Кн. 1. Критический обзор важнейшей литературы вопроса. Кн. 2. Опыт систематического раскрытия вопроса).
Иоанн, схиигумен. Письма Валаамского старца. Изд. Новый Валаам, 1990.
Кант И. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. СПб., 1907.
Капра Ф. Дао физики. СПб., 1994.
Кудрявцев В.Д. Метафизический анализ рационального познания. Соч. Т. 1. Выпуск третий. Сергиев Посад, 1894.
Кудрявцев В.Д. Начальные основания философии. Сергиев Посад, 1910.
Лазарь, архим. Таинство исповеди. М., 1995.
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. «Богословские труды». 1972. № 8.
Никодим Святогорец. Невидимая брань. М., 1886.
Никон (Воробьев), игумен. Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997.
Осипов А.И., проф. Путь разума в поисках истины. М., 2003, 2010.
Соловьев В. Критика отвлеченных начал. М., 1880.
Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. М., 2008.
Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М., 1914.
Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965.
Хомяков А.С. Полное собр. соч. Т.II. Изд.3-е. М., 1886. Богословские и церковно-публицистические статьи. Изд. Сойкина (См.: А.С. Хомяков и значение его для православного богословия).
Челпанов Г., проф. Введение в философию. Киев, 1905.