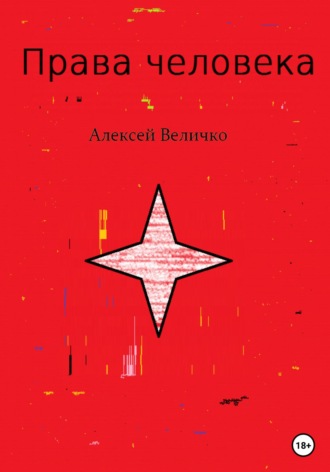
Алексей Михайлович Величко
Права человека
Христианство понуждает человека поднять голову ввысь, хотя грех довлеет и тяжело, очень тяжело покидает разрушенную им душу и тело. «Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется!»27. Зато «равенство», отторгшее духовную природу человека, исповедуемое в пику естественному социальному неравенству людей и иерархическому строению общества, обрушивает человека вниз, вызывая в нем самые низменные, самые примитивные инстинкты и чувства. «На равенство ссылаются только те, кто чувствуют, что они хуже. Это именно означает, что человек мучительно, нестерпимо ощущает свою неполноценность, но ее не признает. Тем самым он злится. Да, его злит любое превосходство, и он отрицает его, отвергает. Явление это ни в коей мере не ново. Люди знали его тысячи лет под именем зависти»28.
В результате этого все большую силу приобретает процесс, который мы едва ли не повсеместно сегодня наблюдаем: субъективные права, подменив собой «права гражданина», затем, словно лисица из старой детской сказки, захватили чужое, исключив из нравственных ориентиров «права человека», которые, утратив свое традиционное содержание, остались пустой вывеской. Отныне ею прикрывают едва ли не любое предприятие, за счет которого желают продемонстрировать приверженность идеалам свободы, которая на самом деле «куда-то» исчезла.
Стоит ли удивляться, что, как мы видели, к «правам человека» начали относить вообще все, на чем останавливается взгляд конъюнктурного политикана?! Качели общественного мнения раскачиваются от одной идеи к другой, но ни одна из них так и не в состоянии решить поставленных перед ней задач обеспечения «равной» свободы человека. И реплика: «Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой: им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу слова!» вызывает не только улыбку29.
Поскольку же, как это закрепилось в науке и общественном сознании, всякое право имеет своим источником исключительно государство, то очень скоро благодетельный для человека союз превратился в настоящего «Левиафана», тотально регулирующего жизнь и желания своих подданных-граждан. Не удивительно, что в самом скором времени все чаще начали раздаваться голоса тех, кто призывает стреножить верховную власть, поставив ее под контроль международных организаций, общественных союзов и т.п., и даже мечтательно пророчествующих скорую смерть государства.
Следует лишь напомнить, что сами по себе «права человека» никакого отношения к этой политологической истерии не имеют, став жертвой учений и доктрин явно антихристианского направления. И фраза: «Современные юристы часто гордятся тем, что освободились не только от этики, но и от религии» не кажется преувеличением…30
VI
Но, увы, крайне тревожные процессы, происходящие сегодня в западноевропейских государствах, не выглядят необычными в сравнении с тем, что демонстрируют культуры, в пику Западу традиционно относимые к ортодоксальному христианству. Размышляя некогда над популярным в «патриотической» среде утверждением, что «Европа гниет», гордость русской философии, ее основатель, В.С. Соловьев (1853-1900) задавался вполне очевидным вопросом: «Какая Европа гниет – христианская или антихристианская?». И сам же отвечал, что те признаки исторической смерти и наступающего разложения, на которые обычно указывают, на самом деле не принадлежат католической культуре. А потому нет никаких оснований утверждать, что от миросозерцания Данте Алигьери (1265-1321) лежит прямой путь к учениям «вульгарного материалиста» Людвига Бюхнера (1824-1899); что святой Франциск Азисский (1182-1226) есть предшественник социалиста Фердинанда Лассаля (1825-1864); а дух Жанны д’ Арк (1412-1431) почил на революционерке Луизе Мишель (1830-1905).
Если и можно предъявлять обвинения католической Европе, утверждал Соловьев, то только в том, что ее история не соответствовала полноте христианской истины. С этим, разумеется, нельзя не согласиться. Но тут возникает встречный вопрос: «Справедливо ли утверждение, будто деятельность церковных людей на Востоке совершенно соответствовала полноте христианской истины, что эта истина вполне воплощена в жизни православных народов, что антихристианское движение не обнаруживается и у нас?»31.
Конечно, этот вопрос носит риторический характер. Известно, что по мере размежевания Восточно-православной церкви и Римо-католической уровень богословия и сам интерес к нему постепенно угасал в Византии. Этот регресс уже явно заметен в VIII в. в ходе противостояния иконоборцев и иконопочитателями, в последующие столетия он лишь углублялся и масштабировался. Кроме того, национализация Восточной церкви привела к сепаратистскому движению, результатом которого стало создание новых национальных Поместных церквей – болгарской, сербской, русской. В течение последних двух столетий этот процесс разложения заметно усилился, вследствие чего сегодня Православная церковь не имеет ни единого центрального органа власти, ни общих канонов за исключением тех, которые были созданы более тысячи лет назад и в массе своей уже отошли в область «мертвого права». Едва ли эти явления свидетельствовали о сохранении высокой степени воцерковленности восточно-христианского общества.
В не лучшем положении оказалась и Россия, которую также не обошла стороной «национализация» Церкви. Собственно говоря, идея «Третьего Рима» с весьма бездоказательным присвоением русскому народу провиденциальных качеств мирового миссии, лишь продолжает тенденцию противопоставления вселенского характера Кафолической Церкви национальному самосознанию, далекому от христианских начал. Как и следовало ожидать, ничего кроме самого пошлого национализма это не породило. «В письме Солженицына – протесты против «клеветы» на Россию. Что же это за жалкое национальное сознание, которое не может вынести ни слова критики?! Толстой ругал и высмеивал французов и немцев, Достоевский тоже. У Тургенева где-то народ «хранцуза топит». Нет меры нашему бахвальству, самовлюбленности, самоумилению, но достаточно одного слова критики – и начинается священное гневное исступление»32.
Но это еще полбеды. Христос явился в Римскую империю, где царил культ права, а понятие «римский гражданин» являлось вовсе не красивой и пустой фразой. Там христианская Церковь врастала в Империю и вырастала в ней, перенимая для собственных нужд ее политические и правовые формы. Блистательная Византия также знала «права человека», поддерживая при этом высокое значение государственного закона, гарантирующего на протяжении многих веков ромеям весьма широкий круг «прав гражданина».
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: насколько распространены были в нашем Отечестве «права человека», имели ли мы разветвленное и гибкое законодательство, обеспечивающее русским людям их «права» и правоспособность, имели ли мы, образно выражаясь, «тяготение к праву»? К сожалению, ответы на эти вопросы носят отрицательный характер.
На протяжении многих веков Русская церковь вполне обходились эрзацами правовых памятников Византии, которые страдали известной неполнотой и односторонностью. В отличие от Запада, где издавна юридическая наука разрабатывалась как систематическая дисциплина, основанная на римском праве, Византия подобных исследований попросту не знала, ограничившись созданием номоканонов, т.е. сборников правовых актов императора и церковных правил, не имевших ни четкой классификации законов, ни их правильной систематизации. Хуже того то, что византийские номоканоны «обогатились» у нас множеством самых различных правовых актов, нередко противоречащих друг другу или вообще утративших практическую силу, но которые торжественно провозглашались, как «Правила Святых Апостол и Отец»33.
Однако при всех недостатках правовой культуры Византии уровень правовой защищенности ее граждан находился на недосягаемой для русского человека высоте. Да, «византийское право» было не столь тщательно и системно разработано, как на Западе, но оно имело своим источником законодательство императора св. Юстиниана Великого (527-565), «Земледельческий закон», «Эклогу» и «Книгу эпарха» императоров Исаврийской династии, «Василики» Македонской династии, обладало высочайшей юридической техникой. В Византии существовала разветвленная система судоустройства, местное управление, контроль за деятельностью государственных чиновников со стороны священноначалия Восточной церкви, и многое другое, чего не имели мы.
Возможно, именно по причине слабости на Руси правовой культуры возникло столь любимое славянофилами учение, что-де закон, право, как гарантия обеспечения личности, русскому человеку не нужны. «Гарантия есть зло. Вся сила в нравственном убеждении!»34.
Однако жизнь наглядно показала, что попытка заменить закон «любовью» иллюзорна по своей сути. Как не согласиться с великим К.Н. Леонтьевым (1831-1891): «Нужно проповедовать любовь, ибо ее очень мало; но не надо ее пророчить. Очень это мило, но и очень мало»?!35 Напротив, закон и «права» человеку необходимы: если мир проклят через грех праотцов, то внешние условия бытия не только не содействуют человеку в достижении им своего спасения, но и прямо противоположны этому достижению. А потому требуют изменения при помощи Церкви, хранящей истину, и государства, эту истину реализующего36.
У славянофилов же, справедливо утверждал Леонтьев, все поставлено с каким-то пристрастным оттенком: «Правда истина, цельность, любовь и т.п. – у нас; а на Западе: рационализм, ложь, насильственная борьба и т.п. – Признаюсь – у меня это возбуждает лишь улыбку; – нельзя на таких общеморальных различиях строить практические надежды. – Трогательное и симпатичное ребячество!»37.
Чтобы это «ребячество» имело хоть какие-то шансы на успех хотя бы в виде социальной утопии, не говоря уже о реальной жизни, необходимо, чтобы в обществе сохранялось, раскрывалось и приумножалось в своем содержании понятие личности человека. А для этого общество должно жить христианской жизнью, оно должно быть воцерковлено. Тогда, возможно, пусть и чисто гипотетически, сила нравственного чувства, братской, христианской любви способна заменить и «права гражданина», и даже государственный закон в целом.
Увы, и в этом отношении наши достижения совсем невелики. Как не раз отмечалось, вплоть до середины XIX в (!) русское богословие находилось в весьма слабом, зачаточном состоянии. Поэтому, «став народом христианским, мы вовсе не стали народом просвещенным». Просвещение не принялось у нас, «грамотность (да и то весьма ограниченная. – А.В.), а не просвещение – в этих словах вся наша история огромного периода, обнимающего время от Владимира до Петра Великого»38. Вся хитроумность наших теологических размышлений не распространялась далее таких вопросов, как, например, определение названия дерева, на котором повесился Иуда, или месяца, в котором Бог сотворил Адама39. А потому миссионерская деятельность давала во многом поверхностные результаты.
Тем более нелепыми кажутся измышления, согласно которым только и исключительно в России христианство укоренилось легко, повсеместно и прочно – как говорят, именно в силу особенностей нашего национального сознания и природы русского человека; с Православием он рождается, живет и умирает. «Нельзя же не признать, – горячо убеждал Ю.Ф. Самарин (1819-1876), – что, что во всей Европе существует только один народ, носящий Христа в душе своей, только один, для которого не порвалась нить, связывающая земное с небесным, взоры которого беспрестанно, сами собою обращаются кверху, а пальцы складываются для крестного знамения при всяком событии, грустном и радостном»40. Такие гиперболы и комментировать не нужно…







