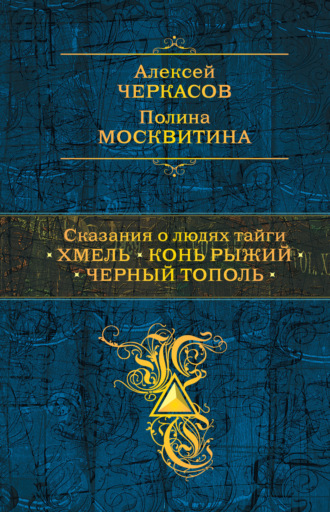
Алексей Черкасов
Сказания о людях тайги: Хмель. Конь Рыжий. Черный тополь
VI
Явился Ларивон. Молчаливый, бородатый, с мешком и топором на левом плече и с толстущим батогом в правой руке. Поглядел на барина, как гора на мышь, прогудел в бороду:
– Пошли, што ль, барин.
Ночь играла ясными звездами. Возле берега шумели рябиновые заросли. Ларивон вышагивал впереди, что медведь, переваливаясь с плеча на плечо и ни разу не споткнувшись, и не оглядываясь на неловкого барина.
Шли часа три, не менее.
Слева – пологий берег Ишима, безмолвная степь, а справа по берегу – травы по пояс. Шелестящие, поющие. Из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес.
Не доходя до леса, Ларивон остановился.
– Тамо-ко хоронись. Батюшка так велел, – указал Ларивон, сбросив в траву мешок и топор.
– Тут нет никакой деревни близко?
– Не хаживал в деревни. Не ведаю.
– А тракт далеко?
– Не ведаю.
Повернулся и пошел в обратную сторону.
Лопарев сел возле мешка, задумался. Потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом?
«Навряд ли я когда-нибудь увижу петербургское или орловское небо! Туда мне дороги заказаны. Одна дорога открыта: на каторгу!»
Но если он сам явится к стражникам, то наверняка его посадят в тюрьму и пошлют запрос царю: как поступить с ним после побега?
«Царь еще подумает, что я собирался бежать в Варшаву, и опять упрячет в Секретный Дом».
Ну нет! Лучше умереть здесь, в степи, чем еще раз быть узником Секретного Дома.
Завязь третья
I
Кудрявые темные березы, отчего вы так печально шумите пышной листвою? Неуемные птицы, о чем вы беспрестанно поете в березовой роще? Муторно на душе Лопарева – места себе не находит в тенистой роще.
Плещется тиховодный синий Ишим.
Минули сутки, вторые. На исходе третья ночь. Над Ишимом полыхает предутренняя зарница. Костер то потухает, покрываясь сединой пепла, то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей.
Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему, жена сына Филаретова, возросшая в двух раскольничьих монастырях, повидавшая Наполеона? Или он ждет, когда к нему явится община с молитвами, песнопениями, с иконами и позовет его к себе как Исусова праведника?
«Не могу я принять дикарское верование, – думает Лопарев. – Как жить с ними, если они сами себя сжигают во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждения, мрак?..»
Надо встать и уйти, пока не поздно.
«Но куда уйти? Куда? – в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. – Велика ты, Русь, а деться некуда! Пустынна ты под тиранией венценосца, ох как пустынна! Одни сами себя гонят в безлюдье, куда-то в дебри на Енисей, другие идут на каторгу, третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный и кормят царскую челядь, а сами живут впроголодь. И терпят, терпят! Доколе же ходить в ярме? Доколе?!»
II
Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его.
Утром Лопарев искупался в Ишиме. Дважды переплыл реку, набираясь остуды тела, а в сущности – хотел успокоить мятущиеся чувства.
Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, то выйдет из рощи в степь и ждет, ждет, когда же наконец появится Ефимия? А ее все нет и нет.
«Она придет. Не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, тогда…»
Лопареву стало жутко. Он не может покинуть эту степь, не повидав Ефимии.
Порхают птицы, беззаботные, веселые, как будто вся березовая роща отдана им на вечную радость.
В зените золотистое облако.
И тишина, тишина. Первозданная…
Когда совсем не ждал – голос:
– Ты ли здесь, праведник Исуса?
Лопарев круто обернулся на голос и попятился. Ефимия ли то?
– Чего так испугался? – А голос, как мед текучий, и сладкий, и приятный, и до того липкий, что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она. Но как же она преобразилась! В синем нарядном сарафане с красной прошвой посередине, с золотой вышивкой по подолу. Под сарафаном батистовая кофта с вышивкой по рукавам, застегнутая на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка. Чудно! Кудрявящиеся на висках черные волосы схвачены красною лентой у затылка, отпущены по спине – струистые, чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка и в такой богатой одежде. И в самом деле – княгинюшка.
Ефимия держится прямо, вызывающе. Глаза большие, блестящие, как черные камушки в родниковой воде, с лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах играет усмешка. Виднеется полоска широких зубов. Белых-белых. На подбородке ямочка. Такие же ямочки на пунцовых щеках, будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии – маленькая иконка Богородицы, отделанная сканью и золотом. Ноги в шагреневых ботинках с высокими голенищами, застегнутыми на пуговки.
Лопарев оробел, утратил дар речи и чувствовал, как прямо в жилы ему льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая. Но если бы он мог знать, какая сила сокрыта в ее красивом и спокойном теле!..
За спиною Ефимии толпились толстые березы, выросшие из одного корня.
Лопарев навсегда запомнил Ефимию на фоне трех берез.
– Ждал меня? – Ефимия поклонилась в пояс, прижимая иконку к ложбине между грудей.
Лопарев кинулся к Ефимии, но она дико отскочила.
– Погоди, Александра. Не подходи, – проговорила она и поспешно перекрестилась. – Возьми палку и бей. Лупи меня, лупи!
Лопарев вытаращил глаза:
– Что ты, Ефимия?
– Али забыл, как толковал тебе старец Филарет?
Лопарев, конечно, забыл.
– «Алчущего накорми, жаждущего напои… бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу батогом гони, лупи, бо се есть бесовская любовь», – напомнила Ефимия слова старца и опустилась на колени.
– И я пришла, видишь. В наряде пришла федосеевском, какой дядя мой, Третьяк, сохранил от покойной матушки. Если бы старец узрил меня в этом наряде, на огонь поволок бы, как ту Акулину. Да не все, Александра, под волей старца. С общиною в Сибирь идет мой дядя Третьяк. Потому: третьим сыном был после мово покойного батюшки. Кабы не дядя Третьяк да не Юсковы, сгила бы я. Убил бы меня зверь окаянный, Мокей Филаретыч, крепость моя страшная! Прости меня, Богородица Пречистая.
Ефимия истово перекрестилась.
– В Писании сказано: жена да убоится мужа своего. Рабыней станет по гроб жизни. Нет! Клянусь светлым ликом материной иконки, не стала я рабою, не стала я женою Мокея, хоть и повязала меня судьба с ним. И никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, и только сама черная смерть, худая немочь, укоротит мой дух и спеленает меня по рукам и ногам.
Ефимия трижды поцеловала иконку.
– К тебе пришла, Александра! Видишь какая. Смотри же, смотри блудницу, праведник.
– Я не праведник, Ефимия.
– Не говори так! Ты – праведник, коль на восстание пошел супротив царя и войска сатанинского. Не убоялся. Кланяюсь тебе в землю пред чистым небом, пред ясным солнышком. И как на небе нет сейчас черной тучи, так и в моем сердце нету тьмы, а есть радость зрить тебя, кандальника. Жаждет душа моя света, Александра. Не блудница я, нет! Не верь наветам, если кто чернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видела. Правду говорю. Нет в моем сердце жалости к Мокею Филаретычу, хоть и спас он меня от лютой стражи собора. Стала я невольницей, а женою никогда не была, хоть породила сына. И горько мне, и тяжко!.. Не жить мне с Мокеем в мире и согласии, как не живет кровожадный коршун с малою горлинкой. Клянусь святым нательным крестом!..
– Помни же, – продолжала Ефимия, – отвергаю я Писание, где сказано, что жена – раба мужа свово. Не рабою, а равною быть хочу. Любви ищу, а не блуда. Такою вели меня на суд собора, такой пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, что я еретичка, а по знахарству – ведьма. Да неправда то! Бог не заповедовал держать душу в цепях, а сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, видит Бог и небо. Пришла, чтоб узнать тебя и – если ты примешь – отдать свое сердце.
Ефимия поднялась и, выпрямившись, спросила в третий раз:
– Ждал меня?
– Ждал, Ефимия, ждал!
– Блудницу ждал?
– Спасительницу свою ждал.
– Погоди. Я не святая, Александра. И не праведница. Но если бы ты позвал меня на смертный бой с царским войском, я бы с радостью пошла на смерть. Такую ты ждал три дня и три ночи?
– Такую, Ефимия!
– Погоди, погоди, Александра. Ты еще не познал меня и не ведаешь, как я стала еретичкой и Мокей спас меня. Скажу потом. И если примешь меня после того, я готова тогда хоть на кресте гореть.
– Зачем гореть?! Довольно одной несчастной Акулины!
– Ой, ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, да вразумил бы темный люд. Радость была бы.
– Будет радость, Ефимия. Будет еще!
– И я помогу тебе, Александра. Слушай, у меня есть пачпорт пустынника, с каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, пещерник, дал мне тот пачпорт, чтоб я передала его праведному человеку. Я шесть годов хранила тот пачпорт втайности. Шесть годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, Богородица!..
III
Ефимия достала из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, потом оглянулась, отошла к березе и повесила сверточек на сук, промолвив:
– В тряпице пачпорт пустынника, Александра. Да не запамятуй: ты его снял с березы. Так старцу и скажи. Пустынники хотели тебя батогом бить и грязью кидать, а ты явишься в общину с пачпортом праведника Исусова. Не знаешь, как старец ругал пустынников и посохом лупил? Пришли гнать тебя, а старец их встрел проклятием. «Иудины дети, собаки нечистые, знамение Господне явилось, да вы ничего не зрили», – кричал на них. Потом Елисею тайный спрос учинили как нечестивцу грязному. И висеть он будет на кресте до того моленья, покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет апостолов-пустынников. А ты явишься с пачпортом. Сам старец упадет тебе в ноги, слышь. Не робей. Так будет, чтоб потом прозрели.
Лопарев слушал и ничего не понимал. Елисей висит на кресте? И он должен явиться с «пачпортом пустынника»! К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит: должен явиться с пачпортом пустынника, и тогда он будет свободен: общинные моленья для него необязательны, он исповедует собственное раденье. Он может учить людей.
– Чему учить, Ефимия?
– Грамоте искушен, поди. Мало ли в общине малолетних отроков, не умеющих читать и писать? Подвиг то, Александра, коль человек несет людям прозренье от тьмы. Я хотела обучать грамоте, да Мокей чуть не удушил меня, яко бесноватую блудницу. А у тебя будет защита – пачпорт пустынника. Скажешь, видение было тебе обучать малолетних грамоте, и никто перечить не станет. Потому: твоими устами глаголет сам Спаситель, скажут.
Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек, то не откажутся ли они потом от дикой веры, гонящей их на огонь и в пустыню.
– Пачпорт возьмешь, когда я уйду. Да не забудь: двоеперстием крестись. Иудину щепоть из головы выкинь, из сердца вынь.
Лопарев подумал: не все ли равно Богу, как Ему молятся, тремя или двумя перстами?
Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узлами, которые она спрятала в роще, перед тем как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда: черная юбка из грубой ткани, холстяная кофта и чирки-мокроступы из яловой продегтяренной кожи. В другом узле снедь: отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, вино и пирог с рыбой.
Лопарев приволок подгнившую на корню березу, собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением.
Ефимия собрала обед и отошла к березе.
– Разве ты не будешь со мной обедать?
– Обедай, Александра. Я не голодна.
– И я не голоден.
– Обедай. Я же не могу обедать с мужчиною. Так заведено у правоверцев.
– Это же дикий обычай, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем?
Ефимия ответила:
– Едины духом, не телом.
– Бог сотворил Еву из ребра Адама.
– Не верю в то, – не моргнув глазом, ответила Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, такая же нарядная и столь же загадочная, как и береза, которую она подпирала своим молодым красивым телом. – Не верю в то, – повторила Ефимия. – В Писании сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земли, и вдунул в него жизнь, и стал человек душою живою». А разве у женщины не живая душа? Отчего Бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? Пошто Бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано: «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: „Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего“». Могло ли так быть? – опять спросила Ефимия. – И еще сказано, что змей ползучий совратил жену яблоком. Отчего змей не обольстил человека, а жену? Человек сказал Богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел». Такого человека, Александра, я бы не стала звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный. А Господь Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, и муж будет господствовать над тобою». Какой муж? Поганый трус! И его Бог назвал человеком. Еще Бог сказал человеку: «За то, что ты послушался жены своей, будет проклята земля, из которой ты рожден; со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни». Могло ли так быть? За что проклята земля?
Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали.
Лопарев сказал, что не читал Библии и не знает, что в ней написано.
Ефимия усмехнулась:
– А я читаю Писание с шести лет. Когда жила в Преображенском монастыре, еще до Наполеона, матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила. Всему верила и блюла святость, покуда судьба не свела с пещерником Амвросием Лексинским. Пошто так глянул на меня? – И, мгновение помолчав, тихо проговорила: – Слушай, что скажу…
IV
– На малую Пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на три дня. Матушка игуменья Евдокия говорила: «Прими пострижение, Ефимия, святой игуменью станешь: вижу в тебе такую тайну святости».
Я готовилась принять пострижение и стать схимницей, да все не могла решиться. То лист тополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, то ветер несет мирской дух, а все душа не на месте.
Стану на колени перед материной иконкой Богородицы и молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, и вдруг за окном послышался легкий посвист ветра: «Иди, иди, иди», – будто зовет в мир соблазнитель.
Собьюсь с молитвы и реву в голос.
«Матушка, где ты? – зову покойную мать. – Отзовись! Я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет божий? Ужли для четырех стен и вечного раденья? Скушно мне, матушка. Глаза бы не глядели на каменные стены! Что в них, в тех стенах? Одно забвение, вечная упокойница. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка!»
Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую помнила.
Проведала про мои стенания игуменья Евдокия и говорит: «Мучает тебя, Ефимия, искуситель. Ступай к дяде на три дня и скажи ему, чтоб он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной. Прославится имя твое по всему христианству, и будут поклоняться тебе девы мирские, чтоб укрепиться в нашей вере. В том великая благодать».
Во всем монастыре никто из белиц не знал так Писание, как я. Сама игуменья Евдокия часто просила меня совершать малые чтения и слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что Писание вошло в меня с молоком матери.
Вот и шла я к дяде Третьяку за благословением. Под вечер так, версты за три от монастыря, вспомнила, что в каменной пещере, чуть от берега Лексы, живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей, был офицером до пострижения и жил в Петербурге.
Думаю, дай гляну на святого Амвросия. Может, он укрепит меня в вере.
К пещере вела тропка среди вереска. Шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника. Будто он зарезал ножом искусительницу, деву, которая приезжала к нему из Петербурга; кого-то из скитских филипповцев пришиб камнем. И что из самого Церковного собора приходили к нему келари за святым благословением. Как-то примет он меня, думаю. А вдруг пришибет камнем иль зарежет, как деву петербургскую?
Подошла к пещере и сробела. Холодом налились ноги и руки. И вдруг слышу стенания:
– Господи! Избави меня от лукавого. Вижу, вижу, разные люди творили Писание. Не словом Бога, а человечьим разумом. Все, все вижу! Прелюбодеяния вижу, корыстолюбие вижу, Господи!
На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные. Замерла возле черных камней пещеры и стою так – ни жива ни мертва. А из камней слышится голос:
– Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей! Не словом Божьим писал ты откровения, а хитростью, чтоб ввести в заблуждение род людской. Презренный!
Внутри меня все помертвело от такого еретичества. Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея! Как тому поверить?
Подумала я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтоб опорочить святого старца. «Нет, думаю, не свершу святотатства. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души».
За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней на семь так, запомнила. Дошла до дубовой двери, стучусь, никто не отзывается.
– Именем Исуса – отзовись, старец! – кричу в дверь.
– Изыди, искуситель! – послышалось в ответ.
– Я не искуситель, а белица монастырская Ефимия. Пришла к тебе, чтоб укрепиться в праведной вере.
И опять старец вопит в ответ:
– Изыди, изыди, Сатано!
Мне было страшно. Ночь застала меня у пещеры, долго я стучалась, покуда Амвросий не открыл дверь.
Он встретил меня с крестом. Я на коленях вползла в пещеру.
Помню, при свете восковой свечки Амвросий показался очень высоким, согбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную, по пояс. Такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные, белые. Одет он был в длинную холщовую рубаху, которая не покрывала его голых ног.
Я сказала, что заблудилась в лесу и вдруг услышала возле пещеры голос искусителя, как он проклинал Святое Писание Моисеево и что Библию творили человечьим разумом, а не словом Божьим.
Амвросий испугался моих слов и затрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку за поморским ножом, какой лежал на столе.
– Не убивай меня, не убивай! – крикнула я, не в силах встать на ноги. – За святостью к тебе шла, не за смертью. Видит Дева Пречистая, дурных помыслов не имею.
Слова ли мои помогли или что другое, но старец бросил нож и, глядя на меня, сказал:
– Вижу, дщерь, погибель изыдет от тебя на меня, как на Адама от Евы нечестивой. Да будет так, аминь. Рок не минул моей головы – на то воля Божья. Встань, дщерь, и дай мне поглядеть на тебя.
Не помню, как я поднялась. Амвросий усадил меня на доски, покрытые рогожей. В пещере были одни голые камни, дымная печурка, на которой стоял черный котелок, сухари на столе, много пучков сухой травы. Возле стола на ларе были сложены книги: Библии на разных языках и печатные откровения пещерников.
Амвросий глядел на меня долго-долго, потом закрыл лицо ладонями и упал на колени.
– Евгения, Евгения, прости мя! – закричал он и схватил меня за ноги.
Я вся заледенела. Думала, пришла моя смертушка.
А старец бормочет:
– Прости мя, Евгения. Не убивал я тебя, не убивал! Искуситель поднял мою руку, видит Бог. Молюсь за тебя, Евгения, прощения прошу. Не мучай меня на исходе лет. Сокройся, если ты не плоть, а дух.
Старец еще что-то бормотал, не помню. Он принял меня за какую-то Евгению. Я сказала, что я Ефимия, белица монастырская.
– Ты ушла в монастырь? – спросил старец.
Я ответила, что с детских лет живу в монастырях. Сказала и про Преображенский, и про Лексинский.
– Ты не Евгения? – допытывался старец.
– Ефимия я, Ефимия, – твердила я.
– Если то правда, как ты говоришь, и если ты не дух, а тело, покажись вся, чтобы я видел тебя без рубища и узнал бы: Евгения ты или чужая белица.
Боже, как дрожали мои руки, когда я снимала свое платье перед старцем! Ничего не помню. Страх перед старцем будто отнял у меня рассудок и память.
Как сейчас вижу. Сижу нагая на досках, а старец со свечою в руке глядит на мое тело и что-то ищет. Меня всю трясет, и я не могу вымолвить слова.
– Нету тех родинок. Нету! – вдруг сказал старец. – Вижу, ты не дух, а плоть. И не моей Евгении плоть. Спаси, Господи! Оденься, дщерь человеческая, и скажи, что тебя привело ко мне?
Я натянула на себя платье и сказала, что пришла к нему, чтоб укрепиться в вере.
– Во что ты веруешь, дщерь? В Писание? – бормотал старец и потом спросил: – Слышала мои стенания, как я говорил про бытие Моисеево? То был мой голос. Куда ты шла? К дяде на три дня? Вот и хорошо. Будешь жить у меня три дня и три ночи, и я открою тебе великую тайну, если ты поклянешься, что словом не обмолвишься, где была три дня, что видела и что слышала.
Я дала такую клятву…
С того началось, Александра Михайлович.
Амвросий читал мне Библию не как игуменья или старцы, а как ясновидец, прозревший тьму на исходе своей жизни. Помню, он говорил: «Жил я, яко агнец незрячий, в мирской суете, жил среди людей знатных и образованных. Носил погоны офицерские и ездил в карете со своим гербом, а душу имел алчного дикаря и невежды. Верил в то, во что верили люди, пребывающие во тьме. Любили меня, я любил. Потом познал великую любовь белошвейки Евгении. Вечную любовь, без какой не может жить человек. Белошвейка – не княгиня, не графиня, и я не мог жениться на ней, хотя дня не помышлял прожить без нее. Тогда послал меня родитель воевать Емельку Пугачева. Молод был, по двадцать первому году, и отвагою и лихостью прославился от Казани до Петербурга. А потом, как начали казнить пугачевцев да распинать их на столбах, вешать на деревьях, содрогнулась моя душа. Черным показался белый свет, и любовь к Евгении угасла в сердце. Как можно коснуться девичьего тела руками, испачканными кровью? Чудилось мне, что я весь в крови пугачевцев. Мучили они меня во сне, проклинали, и я ни в чем не находил утешения. Потом помог захваченным пугачевцам бежать от стражи и ушел с ними в Поморье, в монастырь. Много пронеслось дней в поисках, дщерь, пока я не обрел пещеру».
Амвросий говорил, что за долгие годы в пещере он перечитал много Библий на разных языках, каким был обучен в молодости. «Не словом Божьим, а промыслом людского разума творилась Библия, – говорил Амвросий. – Познал я еврейский и греческий языки, чтоб читать Библию в первозданности. И вижу: разночтений множество, прелюбодеяния и скверны, как в миру навоза». Так и говорил Амвросий; я слово в слово помню его речения. В семнадцать годов у девицы память как прошва на батисте. Батист износится, а прошва видна все ярче да ярче.
Амвросий открыл мне, что Библию творили евреи по сказаниям других народов: египетских и вавилонских. Семь годов он собирал древние книги, пока уразумел тайную суть.
«Человек пребывает во тьме, а тьма – тенеты невежества и неразумения, – толковал Амвросий. – Вижу, – говорил он, – не в Библию веровать надо, а в дух вселенский, в солнце, яко греющее нас, питающее нас. В том Бог, откуда исходит благодать. Слова – вода, текут по склону, а не в гору. Напустили в Библию много слов и наполнили ими землю. Заблуждение ввели да рабство. Не должно быть рабства, дщерь. Человек – земное светило, и от рождения каждый равен другому».
Как сейчас вижу Амвросия Лексинского: весь белый, сидит сгорбившись и толкует мне Писание, как надо читать и понимать.
Амвросий звал меня своей дщерью и взял трижды клятву, что я до конца дней буду нести в мир слово прозренья от тьмы, а не саму тьму.
«Будь послушна, дщерь, яко овца; живи со общиною, – наказывал он. – Но пусть река твоей веры перебьет течения мутных вод, и ты обретешь вечность. Не сразу, не в день откроешь людские души. Наберись на то терпения. Гнать будут – терпи. Бить будут – не плачь. Помни, свет не сразу пробивает тьму. Глянь на восход солнца. На востоке заря от солнцевсхода, а в лесу темно, как в колодце. Но ты не отступайся от тьмы. Точи ее словом, и камень станет дресвой и распадется».
«Стар я и немощен телом, – говорил Амвросий. – Если бы я, дщерь, был так же молод, как ты, вышел бы из пещеры и жил бы, как Мафусаил, девятьсот годов, только бы открыть истину людям. Но вижу, жизнь моя на исходе. Изморил себя постами и раденьями, а не тяжестью годов. Клянись, дщерь Ефимия, клянись жизнью своей, чревом своим, кровью своей, что ты пронесешь мои откровения людям через всю тьму».
И я клялась. Старец добыл ножом кровь из моего пальца, и я начертала крест на Библии греческой. Амвросий посыпал мою голову пеплом из очага, и я припала к его стопам, как к святому источнику в пустыне Аравийской.
Так было, Александра Михайлович…





