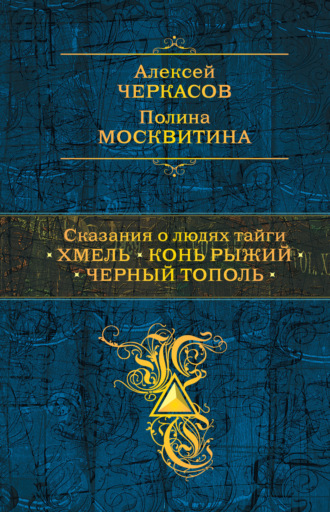
Алексей Черкасов
Сказания о людях тайги: Хмель. Конь Рыжий. Черный тополь
V
Некоторое время братья шли молча в тени багряных прибрежных тополей.
– Что он там пишет, сицилист?
– Про политику ничего не пишет. Кабы было!.. Про сражения, за которые кресты получил. Прописывает, как погиб их командир штабс-капитан в бою, как он командование на себя принял. В «кошель» к немцам попала вся дивизия генерала Лопарева; с боями пробивались из того «кошеля». И сам генерал тяжелые ранения поимел, и от дивизии мало осталось. Теперь дивизия в Смоленске.
– Та-ак. Ну а про меня что?
– Тебя он круто посолил. Так и пишет Зыряну: «Сообщите, мол, как там распорядился с Дарьей Елизаровной цыган, жадюга?»
– Цыган?
– Далее: «Если цыган силою выдал Дарьюшку замуж, за казачьего недоноска» (это он про Григория Андреевича), то, пишет, «приеду на побывку, с цыганом подобью итоги по-фронтовому». Стал-быть, жди, припожалует. При оружии, как офицер, и характер, должно, не хуже твоего.
– Та-а-ак. – Елизар Елизарович стиснул челюсти – желваки вспухли. – Припожалует. Ну что ж. Осиновый крест схватит.
– Гляди. Как бы по-другому не обернулось.
– Не пужай ястреба сороками!
– А чего бы тебе: пусть Дарья сама обдумает, ей жить в дальнейшем. С Дуней-то как произошло? В насильном замужестве долго ли прожила? То и с Дарьей. Пропадет, как Дуня. А можно с толком распорядиться. Хочет уйти учительствовать, пускай идет, если ей не по нраву Григорий Андреевич. Как там ни суди: девке двадцать лет – принуждать нельзя. И Боровик на стену не полезет.
– Боровику – Дарью?
– Сама пускай решает. Может, выйдет за кого другого.
– Не «за кого другого», а за Григория. И ты не сучи хвостом – от Боровика награды не получишь. Если хочешь, чтобы я оказал тебе поддержку, не тряси штанами: письмо к Зыряну сожги и пепел выкинь к свиньям. Воинского начальника завези ко мне, поговорю с ним, как следует быть. Сам подумай: если про Боровика на сходке объявят, все ссыльные поселюги хвост подымут и тебя же копытами бить будут. Тебя же, урядника! Или не соображаешь? Весь разговор про геройство и про офицерство сицилиста перетрем в ладонях. Мало ли сволочей проскочит в прапорщики через войну – и все им кланяться. Итоги подобьем после войны. Там будет видно, кто останется в офицерах, а кто в трубочистах. Морду ему еще начистят, если останется жив. Потому он и метил на Дарью, чтоб зацепиться за юсковский корень и на поверхность выплыть. Не выйдет. Лапы обожжет. Вот на пароходе встретил меня Боровиков – рыжая образина. Брат того, кажется. Поклон отвесил, земляком назвался, «воссочувствия от радостев» проявил и лапу протянул: «Христа ради!..» Дай такому поблажку – он тебя за горло схватит. Не миловать, а бить таких надо.
– Оно так, – буркнул притихший Игнат Елизарович, приноравливаясь к шагу старшего брата: как там ни суди, а «цыган-жадюга» – головастый миллионщик, на кривой не объедешь.
Багряно-жухлые листья прибрежных тополей кружились в воздухе, устилая землю.
– Тут ведь какая вышла штука… – заискивающе заговорил Игнат Елизарович. – Как пришел пакет воинскому начальнику, я под тот раз был в Каратузе. Говорю: «Он же сицилист, Тимофей Боровиков, и розыск был из жандармского управления». И писарь тот помнит. Отыскали бумагу. Прописано: в такой-то воинской штрафной части, с девятьсот четырнадцатого году Тимофей Боровиков, значит, крамольные разговоры проводил среди нижних чинов. И вдруг новая бумага: прапорщиком объявлен и георгиевский кавалер! Воинский начальник за голову схватился. Говорит: в уезде разузнаем.
– Ну и как?
– Ротмистр пояснил, что опосля того поступило из губернского управления упреждение: Боровиков проявил храбрость в боях. А тут вот и новая бумага!..
– На волка «Георгиев» навешали?
– Выходит…
– Сымут. Раскусят, что он за фрукт, и в «могилевскую губернию» пропишут.
– Дай Бог!..
Братья разошлись мирно. Игнат Елизарович пообещал уничтожить письмо Тимофея каторжанину Зыряну и завезти воинского начальника в гости к Елизару…
Покончив с делами в Минусинске, на тройке собственных рысаков, лоснящихся от сытости, Елизар Елизарович с Григорием в рессорном тарантасе с брезентовым пологом мчались Курагинским трактом в Белую Елань.
VI
Дарьюшка петляла по горенке, как черная лисица в клетке. Четыре стены, четыре угла и филенчатая дверь на замке – арестантка. «Все равно уйду, через стены уйду. Не хочу, чтобы меня спихнули с рук Потылицыну, в придачу к паровой мельнице. Отцу нужен свой человек, чтобы ворочать миллионами. И он хотел бы, чтобы я стала закладной у Потылицына, сидела бы в четырех стенах и была бы покорной, как купчихи в Минусинске».
«Бежать, бежать! – зрело решение. – Если явится отец с Григорием, тогда не уйти. Он меня убьет. Или, как тогда Дуню, будет волочить за косы по горнице, пинать, издеваться». Кто знает, где теперь горемычная Дуня? Был слух, будто с цыганом спуталась на руднике Иваницкого, а потом куда-то исчезла. «Все равно уйду, – думала Дарьюшка. – Пусть погибну, но уйду!»
Но как бежать из четырех стен, если мать Александра Панкратьевна и сам дед Юсков денно и нощно доглядывают за пленницей?
В молитвеннике – неотправленное письмо Аинне Юсковой, подружке по Красноярской гимназии. Как давно все это было! Гимназия, двухэтажный бревенчатый дом Михайлы Михайловича Юскова, того самого Юскова, с которым в тайной войне сам Елизар Елизарович! Что сказал бы отец, если бы ему в руки попало это письмо?
«Аинна! Милая моя подружка!
Не знаю, получишь ли мое письмо и живешь ли ты сейчас дома, но я бы очень хотела, чтобы письмо мое дошло до тебя. Ты вообразить не можешь, что я пережила с того времени, когда вернулась домой из гимназии.
Я не писала тебе: не могла писать. Такое со мной приключилось, что я два года жила как в тумане и все чего-то ждала, на что-то надеялась. Боже, что я только не передумала и не перечувствовала за это время!..
Как бы я хотела сейчас вспорхнуть и улететь в Красноярск и там встретиться с тобой, с дядей Михайлой, с тихим Ионычем и с твоей мамой Евгенией Сергеевной. Вы совсем иначе живете, чем у нас в Белой Елани. У нас тюрьма, староверчество; а у вас в доме все куда-то спешат, спорят, и жизнь такая кипучая, что дух захватывает. Помню, как я бегала из комнаты в комнату в вашем доме и все ждала бурю, чтоб испытать силу. Но бури не было, и твоя мама смеялась над нами: „Девчонки! Сахарные барышни! Не думайте, что все так просто в жизни, как вам сейчас кажется. Однажды вы проснетесь от розовых снов и увидите себя беспомощными и жалкими и, чего доброго, перепугаетесь…“»
VII
Дарьюшка скомкала письмо и, взглянув на иконы, исступленно проговорила: «Неправда, неправда! Жив он, жив, жив!»
Тыкались сонные мухи в стекло, а Дарьюшка, похаживая по горнице, места себе не находила. За окном стылая осень трепала куст черемухи, и багряные листья устилали поблекшую траву в палисаднике. В ногах и руках ртуть перекатывалась. И страшно, и отчаянность подмыла. Понесла, закружила – не удержаться. Судьба решалась! Не сегодня завтра вернется отец из Красноярска. Тогда будет поздно…
В большой горнице чаевничали сватовья Потылицыны, братья Григория Андреевича. Вкусно пахло жареным мясом, утятиной, сдобным печеньем, а у Дарьюшки совсем живота не стало.
– Григорий наш жалостливый, да и умом Бог не обидел. В большом чине. Сама великая княгиня собеседование вела с ним, когда в казачье войско припожаловала с генералами и сановниками. Есаульского чина удостоили! – гудел бас Пантелея Потылицына.
«Хоть бы провалился сквозь землю ваш Григорий!» – подумала Дарьюшка, подслушивая разговор возле двери.
В горенке – ни пальто, ни жакетки, ни шали. Дед Юсков догадался убрать одежду.
«Сбегу в одном платье, – соображала Дарьюшка. – Только у кого спрятаться на день-два? Хоть бы деньги были! Серьги отдам, крестик с цепочкой».
Перебирала в памяти дом за домом, и везде – чужие люди. Уйти к поселенцам в Щедринку? Но ведь она там никого не знает. Ни одной семьи, ни одной избушки! Да примут ли ее, дочь свирепого миллионщика, бедные, зависимые от Юскова люди?
Нет, в Щедринке не найти пристанища…
«Только к старику Боровикову, – остановилась Дарьюшка. – Неужели он не спрячет? Отдам ему золотые серьги, крест с цепочкой, только бы тайком увез в Минусинск или в Курагино. Тут же близко! В Курагино пойду к становому и буду просить защиты. Все ему расскажу. И про Дуню, и про себя. Пусть нас рассудит закон».
Зрела разгоряченная мысль, накатывалась отчаянность, прихолаживая сердце. Глаза у Дарьюшки стали какие-то острые, суженные, как черненые пули на тяжелого зверя, – так и выстрелят.
На сон грядущий помолилась – истово, медленно и твердо накладывая на себя кресты, словно впечатывала двоеперстие в грудь, в середину лба, в плечи.
Понаведалась мать. Благословила Дарьюшку, молвив:
– Смирись, доченька. Себя мучаешь и нас всех изводишь. Чем не муж Григорий Андреевич? И сам собой пригляден, не ветрогон, и офицерского званья. С отцом дело ведет.
– А я что – закладная для отца? Пусть они ведут свои дела, а меня оставят в покое. Я ничего не требую от вас. Ничего! Дайте мне уйти.
– Знать, кто-то изурочил тебя.
– Никто не изурочил, а Григория терпеть не могу.
– Слово-то отцовское нерушимо. Смирись. Тебе добра желаю.
– Добра? – передернулась Дарьюшка. – На шею петлю хотите накинуть, и это добро?!
– Ополоумела!
– Лучше смерть, чем замуж за Григория.
Дед Юсков заглянул в горницу:
– Вот куда вылезла сатанинская гимназия. Не я ли упреждал Елизара: не держи девку в доме баламута Михайлы! Не дом, а содом с гоморрой. Того и Дарья набралась.
– Неправда! У дяди Михайлы в доме настоящая жизнь, а у нас – вечная тьма, иконы, молитвы и – тьма, тьма!
– Тьма?! Иконы – тьма? – ощерился дед. – Погоди ужо, разговор будешь иметь с отцом. Защиты моей не будет. Али смерть жди, али покорность прояви.
Разошлись, не помирившись. Дарьюшка поджидала, когда уснут все в доме. Знала: мать с сестрой Клавдеей спят – из ружья не разбудишь. Дед Юсков одним ухом спит, другим – возню мышей слушает.
VIII
Померкли двуглавые орлы на тисненых обоях. Дарьюшка поднялась, подошла к двери, долго прислушивалась. Надела свое черное платье, а вместо шали – льняное покрывало на плечи. Заглянула под кровать, достала войлочные туфли.
Стала на молитву.
За окнами черно и мокро. По стеклам потеки дождя с хлопьями снега; октябрь дохнул стужею. И ветер, ветер.
Долго отгибала ножницами гвозди у второй рамы, потом бережно вытащила раму и поставила ее возле простенка.
Распахнула створку. Ветер рванул в горницу, обдав холодом. Прислонилась к косяку.
Нет ли кого в переулке? Безлюдно. Через переулок – бревенчатая стена дома дяди Игната, урядника. В окнах черно.
– Спаси меня, Господи. – Вздохнула во всю грудь, вылезая из окна в палисадник. Не успела прикрыть створку, как по большаку, сперва издалека, а потом ближе, послышались знакомые перезвоны серебряных колокольчиков. Отец! У одних Юсковых малиновый перезвон. «Боже, если захватит?» И, прикрыв створку, притаилась возле кустов черемухи. Малиновый перезвон залил улицу. Слышно было, как хлопали копыта по грязи. Дождь, дождь…
Тройка миновала переулок и подвернула к ограде Юсковых. Дарьюшка, поддерживая обеими руками покрывало, быстро перелезла через частоколовый палисадник и, не оглядываясь, побежала по переулку, в сумрачную пойму Малтата.
Взмыленная тройка била копытами; кучер Микула стучал кнутовищем по тесовым воротам. Встречать выбежал дед Юсков – Елизар Елизарович-второй, как он называл себя знатным гостям.
Кучер провел под уздцы тройку в обширный двор, вымощенный торцом – кругляшами лиственниц.
Елизар Елизарович-третий, усталый и злой, вылез из-под брезентового полога, а вслед за ним Григорий.
– Микула! Вьюки занеси в дом.
– Сичас занесу.
Два Елизара – отец и сын – упруго сдвинулись цыганскими глазами и молча прошли в просторную переднюю избу. За ними Григорий, как восклицательный знак, поджарый, высокий и почтительно молчаливый.
– Живы-здоровы? – буркнул Елизар-третий.
– Слава Богу, – ответил Елизар-второй, уважительно поглядывая на оборотистого сына. – Как у тебя съездилось?
– Старая лиса Михайла хитрит с прибылями. И акционеры такоже.
– Ворюги, – поддакнул отец.
Из опочивальни выдвинулась заспавшаяся Александра Панкратьевна, отвесила поясной поклон супругу, приняла «аглицкое пальто» с бархатным воротничком, гарусный шарф и, приветив будущего зятя Григория Андреевича, взяла от него шинель, ремни с шашкой и казачью фуражку.
Из боковой светелки вышла горбатенькая Клавдеюшка и, низко поклонившись батюшке, уползла в тень лакированного буфета, забитого серебром и хрусталем, – знай, мол, наших! И мы не деревянными ложками щи хлебаем.
Прошли в большую «парадную горницу», обставленную венской мебелью, вывезенной по специальному заказу из Будапешта. Домоводительница Алевтина Карповна, из городчанок, перехваченная у золотопромышленника Иваницкого, «собачника», «псаря», церемонно пригласила Потылицына на плюшевый диванчик, придвинув к нему лакированный закусочный столик с графином хорошего вина и хрустальной пепельницей, хотя Григорий не курил. «Для такого столика положена пепельница», – объяснила однажды хозяину Алевтина Карповна.
На большой круглый стол под сверкающей висячей лампой в серебряном черненом ободке со стеклянным абажуром домоводительница накинула скатерть и собрала холодную закуску. Из вьюков достали коньяк, копченую нельму и, что самое важное, новинку из Японии: банки консервированных крабов, выловленных в территориальных водах России японскими рыбаками.
– В доме Михайлы Юскова кого не встретишь, – разминался Елизар Елизарович, похаживая по мягкому пушистому ковру вокруг стола, украдкой взглядывая на филенчатую дверь в малую горенку, где, как он узнал от Игнашки, отсиживается под замком Дарья. – И японские коммерсанты бывают, и голландские купцы, и датчане с англичанами. К зиме ждут гостей из Америки. И все жрут нашу хлеб-соль, и всем нужна сибирская пушнина, и золото, и масло, и мясо. У нас же закупают и нам же, как от своих фирм, продают с прибылью для себя. На пароходе встрел американского пузыря, под вывеской датской концессии вывозит в Европу наше масло – сибирское. Будто сами не умеют масло вырабатывать от своих коров.
– Экая напасть, – вторил Елизар-второй, успевший натянуть на себя жилет с кармашками и нагрудной золотой цепью от часов, заводимых по торжественным случаям. – Так и Расею растащат.
– И растащат, – раздул ноздри Елизар Елизарович. – Отчего не тащить, ежели головы в Сенате мякинные? Война тряхнула, и остатнее соображение вылетело. Да и мы тоже, русские промышленники! В пеленках пребываем, во младенчестве. Кабы я со своей конторой лег на большой фарватер – в Красноярск или вот в Новониколаевск. Городишко малый, а на бойком месте строится. Говорят, лет через двадцать Новониколаевск заткнет за пояс Красноярск. Потому на стремнине поставлен. Семипалатинские и барнаульские степи рядышком, алтайская благодать. И киргизские земли. Есть где кадило раздуть.
– Новониколаевск? Ишь ты!
– Думал махнуть туда со своей конторой. Опять-таки, если умом раскинуть, то и на Енисее можно укрепиться. И Урянхай наш, и инородческие волости по Абакану до Саян. Для скотоводства – не хуже семипалатинского приволья.
– Оно так, – поддакнул Елизар-второй.
– Но дело надо держать в самом Красноярске. Купил вот участок под застройку дома. Каменный поставлю, на три яруса. Возле пристани, чтоб все было под руками.
Елизар-второй почесал в затылке:
– Ладно ли? Белая Елань, к слову сказать, на золотом тракте. И туда прииски, и сюда…
– Белая Елань – забегаловка, медвежий угол. Сделки совершаются в больших городах.
– Иваницкий тоже проживает в деревне у инородцев.
– Псарю – собачье место, – отрубил Елизар Елизарович. – Куда он сунется, Иваницкий? Или не знают, как он монашеством прибрал к рукам прииски?
– Оно так. Псарь.
– Если бы Михайла не жил в Красноярске, разве бы он ворочал такими миллионами? И в Англии у него свои люди, и в Японии, и в самом акционерном обществе – заглавная фигура, и с губернатором на одну ногу.
– Старик ведь. На три года старше меня.
– Скоро сдохнет.
Елизар-второй вздохнул: «И я не заживусь, должно».
– Кому же капиталы перейдут? Сыновьям? Двое у него?
– Капиталы? Похоже, сыновья умоются. Пока они военные мундиры носят, петербургская просвирка Евгения Сергеевна дом и дело к рукам приберет. Хитрущая змея! Обставила себя управляющими-мошенниками. На прииски – брата, Толстова по фамилии. По лесоторговле – племянника Львова посадила. Мало того: в тайном сговоре с американцем, мистером Чертом прозывается. На русском языке гребет не хуже архиерея Никона. И сам архиерей, цыганская образина, днюет и ночует у Юсковых. Такая круговороть в доме – не приведи Господи!
– Должно, укатают Михайлу Михайловича…
– Укатают, – подтвердил Елизар Елизарович. – Не жалко. Туда ему и дорога. Дело лопнет. С такими порядками, чего доброго, пая в пароходстве лишусь.
– Спаси Христе! – перекрестился Елизар-второй. – Как надумал-то? Забрать пай?
– Евгеньюшка на то и била, чтоб я взял пай и развязал ей руки. Не на таковского напала. Чавылин, как уговорился с ним, отдаст мне свой пай с пятью процентами. Так что к весне два пая мои. А там подобьем итоги: чьей силы больше?
– Дай-то Бог! Григория Андреевича пошлешь в Красноярск? – догадался старик.
– Надежнее нету, – кивнул Елизар Елизарович.
Григорий Андреевич, прислушиваясь к разговору, никак не отозвался на похвалу.
– Дай Бог! Дай Бог! – кудахтал старик.
– Медлить нельзя. С последним пароходом Григорию надо уехать, и Дарья с ним.
Обмолвившись про Дарью, сын уставился на отца:
– Што она тут за фокус выкинула?
Старик переглянулся с Александрой Панкратьевной. Та, скрестив пухлые руки на груди, потупилась. Алевтина Карповна, как бы стараясь отвести неприятный разговор, пригласила к столу:
– Присаживайтесь, Григорий Андреевич.
Выпили по рюмке коньяку, закусили.
– Так что она за фокус выкинула? – напомнил Елизар Елизарович. – В побег, говорят, ударилась?
Старик подтвердил:
– Было дело. В Минусинск собралась, в учительницы. Чтоб самой хлеб себе зарабатывать. Ну, пошумели. Под замок посадили, штоб охолонулась.
Елизар Елизарович набычился:
– На хлеб себе зарабатывать? А за родительскую хлеб-соль рассчиталась? Позовите!
– Может, утречком потолкуешь? – уклонился отец.
– Зови!
Старик долго не мог отомкнуть замок – руки тряслись. «Хоть бы миром обошлось», – молился. Открыв половину филенчатой двери, громко позвал:
– Дарья!.. Заспалась, Дарья! Проснись! Отец приехал!
Тишина и темень.
В приоткрытую створку двери потянуло ветром. Старик пошел в горницу, на ощупь к деревянной кровати. Ощупал постель – пусто! И тут увидел выставленную раму…
– А-а-а-а-а!.. Такут твою!.. А-а-а!.. – повело Елизара-второго, словно судорога схватила.
С треском распахнулись обе половинки двери, и в горницу ворвался Елизар Елизарович.
– Где она? Где? Сбежала?! Как же вы, а?..
– Потемну наведывался, потемну, – бормотал старик, суетясь возле окна. – Потемну наведывался! Ни обувки, ни одежи. Голышком ушла, Осподи!
Александра Панкратьевна с Клавдеюшкой запричитали как по покойнику.
– Ти-ха! – рыкнул Елизар Елизарович, распинывая венские стулья. – Найти ее, сейчас же! Сей момент! Поднять работников. Конных послать на тракт в Курагино и в Каратуз. Живо! Григорий, подымай своих казаков.
Вылетел на резное крыльцо:
– Ра-а-а-бо-о-о-тники! По-о-дымайсь!
Из большой избы выбежали трое мужиков с бабами.
Григорий, схватив шинель и ремни с шашкой, побежал будить братьев…
Верхом и пешком кинулись на поиски Дарьи.
Завязь десятая
I
Тьма, стылость, мокрость осенняя… Дарьюшка пробиралась берегом Малтата к дому Боровиковых, настороженно прислушиваясь к деревне.
Нудно лопотал лапами-листьями черный тополь, как шатром укрывающий тесовую крышу дома Боровиковых.
Прокопий Веденеевич задержался на полуночной молитве.
Сучья тополя шуршали по крыше.
Под завывание ветра с мокрым снегом, отбивая поклоны, набожный тополевец читал псалом:
– Милость Твоя до Небеси; истина Твоя до облаков. Правда Твоя как горы Божьи, и судьбы Твои – бездны великия. Человеков и скотов хранишь ты, Господи…
Раздался стук в окошко моленной.
Прокопий Веденеевич испуганно обернулся, пробормотав: «Спаси мя, Христе…»
– Прокопий Веденеевич, – послышался голос, как будто из потустороннего мира.
Старик воздел руки к иконам, запричитал, а из неведомого: «Прокопий Веденеевич! Прокопий Веденеевич!» – да так настойчиво, страждуще, что старик, одолевая робость и страх, приблизился к окошку.
Лицо будто. Женское.
– Хто там?
– Ради Бога, пустите в дом!
– Хто ты?
– Я – Дарья. Дарьюшка Юскова.
– Осподи прости! – Прокопий Веденеевич отважился открыть половину створки. На голове Дарьюшки что-то белое, мокрое. На исхудалом лице не глаза – горящие угли.
– Юскова, гришь? Елизара Елизаровича?
– Из тюрьмы ушла я, Прокопий Веденеевич. Замучили, замучили меня. Под замком держали, как арестантку, – бормотала Дарьюшка, и глаза ее, умоляющие, просящие, прилипли к бородатому, немилостивому лицу старика. – На одну ночь пустите. Завтра уйду в Курагино, к становому, а потом в город. Ради Бога!
– Экое!..
– Ради Бога!..
– Опамятуйся, дщерь. Опамятуйся. Не Божья воля то, чтоб от родителя в побег дщерь ушла. Не по-Божьи то! От нечистого экое наваждение.
– Не Бог меня мучает.
– Нечистый искушает, грю. Нечистый. Верованье ваше поганое, оттого и нечистый верховодит домом, грю. И сказано: «Не отверзни лицо твое от родителя, вскормившего тя, паки молоком своим». Ступай и покорись.
– Не покорюсь. На одну ночь пустите. Серьги золотые с каменьями отдам. Крест золотой на платиновой цепочке. Ради Христа!
– Не искушай, сатано! Не надо мне ни твоих сережек, ни сатанинской печатки на золоте, кое крестом зовешь. И в дом пустить не могу, не обессудь. Верованье ваше рябиновое, греховное. И дед твой, Елизар, еретик и паскудник. Ступай.
Дарьюшка вцепилась руками в подоконник.
– Ради Христа! Убьет меня отец. Хоть в амбар пустите. На одну ночь.
– Али ты в своем уме? – ударили каменные слова. – Куда убежишь от воли Божьей? Судьба твоя в руце Создателя, грю. Терпением да послушанием жить надо, а не греховной плотью. Али не ведаешь слова Апокалипсиса Иоанова?
– Иоанова? – переспросила Дарьюшка, соображая, что ей толкует бровастый старик. – Не помню я, не помню.
– И то! Откель тебе помнить про таинства, коль у греха в приклети возросла! – злобствуя, твердил старик.
И Прокопий Веденеевич, будто смилостивившись над несведущей Дарьюшкой, поведал ей устрашающим голосом, точно творил заклятье всему роду еретиков Юсковых:
– Есть у таинства четыре коня, и каждому дан глас грома Господнего. Под первой печаткой – конь белый, а на нем всадник, имеющий лук и на голове венец. Под второй печатью – конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга, и дан ему большой меч на два конца точенный. Смыслишь то? Конь рыжий явлен ноне, и стала война, побоище всесветное.
– Да, да, война, – отозвалась Дарьюшка, трясясь от холода и проникающей сырости. «И на войне убит Тимофей», – вспомнила, а Прокопий Веденеевич продолжал:
– …и когда он сымет третью печать, тогда явится на землю конь вороной, имеющий меру в руце своей, чтоб грехи людские перемерять. Стон будет и вопль будет.
– И стон и вопль, – повторила Дарьюшка, и зубы у нее отстукивали мелкую дробь.
– …и будет снята четвертая печать, и тогда объявится конь бледный, и на нем всадник, слушай. Имя тому всаднику – смерть, и ад за ним. И дана будет ему власть над четвертой частью земли – умерщвлять мечом и голодом, мором и зверями земными, и не будет грешникам спасения. Ступай, дщерь! В послушании и терпении явится тебе Спаситель, и ты узришь тайну, и жизнь откроется тебе из пяти мер.
– Из каких «пяти мер»? – тряслась от холода Дарьюшка.
– Святым мученикам, какие не ведают греховной плоти, был глас Господний. И сказано: «Ведайте пять мер жизни и сготовьтесь предстать пред ликом Творца нашего». Такоже. Первая мера – когда во чреве пребываешь и ноздрями не дышишь, а плоть живая. Отчего так? Господь ведает. Вторая мера – когда на свет народился, стопами по земле пошел, а что к чему – не уразумел. Один к Богу обратился, и благодать ему от века. Другой во грехе увяз, яко свинья в навозе. Со злом трапезу правит и не ведает, когда грядет конь бледный и спрос и суд чинить будет.
Дарьюшка решительно ничего не понимала. Что еще за «мера жизни»? И что за «конь бледный»?
– Будет и третья мера жизни за второй, – наставительно продолжал старик. – Угодный Богу, яко во второй раз народится, и радость будет ему. И небо узрит в розовости, и станет на душе его просветление и мир. Такая мера для святых мучеников.
– И я, и я мученица!
– Ты не мученица, а во грехе пребываешь, коль плоть терзает тебя. Зри! Грядет третья мера, как жить будешь?
– Я ничего не понимаю!
– Будет дано, поймешь. И еще скажу: за третьей мерой жди четвертую, в коей старцы пребывают. Тогда душа очищение примет от земной скверны, чтоб воссиять в пятой мере и усладиться вечным блаженством в загробной жизни.
– Не понимаю!
– Ступай тогда! Нету мово разговора с греховницей, коль святого слова не разумеешь.
– Какая мера? Где? Люди как звери. Они меня замучают.
– В третьей мере возрадуешься, грю.
– В третьей? О Боже! На одну ночь прошусь. Я не чужая вам, не чужая! Сын ваш…
– Сгинь с глаз моих, не совращай. Экая стужа! Не держи створку!
Старик пытался закрыть створку, но Дарьюшка вцепилась в нее обеими руками.
– Скажите, ради Бога, Тимофей живой?
– Плоть мучает тебя, греховодница!
– Живой он? Живой?
– До чего же ты вредная. Гумага была – убит. Неведомо токмо: с покаянием али без креста и молитвы отошел из юдоли земной. Ежли без покаяния, сгил, как не жимши.
– Не верю! – выкрикнула Дарьюшка. – Не верю! Покажите бумагу.
– Не тебе пришла гумага из волости, а мне, яко родителю, – рассердился Прокопий Веденеевич. – Изыди, грю.
– Не уйду! Дайте прочесть бумагу.
– Створку вырвешь, дура. Бить тебя, што ль?
– Бейте же, бейте! – рванулась Дарьюшка грудью в окошко.
Прокопий Веденеевич отступил, ругаясь, глядя на Дарьюшку пронзительно и зло, а тогда уже достал из деревянного сундука сверток казенных бумаг, порылся в нем и нашел извещение, сочиненное урядником о погибшем сыне Тимофее.
Дарьюшка выхватила четвертушку бумаги и, повернув ее к свету, мгновенно пробежала глазами, и еще раз, и еще, и вдруг, тихо ойкнув, повалилась на завалинку.
Старик испуганно перекрестился, быстро захлопнул створку, притянул ее веревочкой к косяку и, не мешкая, погасил свечи на аналое, бормоча что-то под нос, ушел в большую горницу к сырице Меланье.
«Неисповедимы пути Господни, – подумал он, приваливаясь к теплому боку невестки на деревянной кровати. – Экая дурь обуяла девку, а? Ума решилась! Греховное в греховности пребывает».
И заснул сном праведника.





