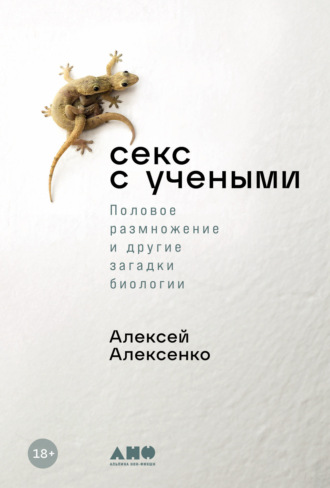
Алексей Алексенко
Секс с учеными: Половое размножение и другие загадки биологии
Еще один важный параметр – частота, с которой возникают мутации к бесполости. Американский генетик Джордж Уильямс (1926–2010), который скоро еще раз появится в нашей истории, предположил, что одна из причин сохранения секса – технические трудности, которые приходится преодолевать организму при переходе к клональному размножению. Если стать бесполым сложно, такое событие будет маловероятным. Тогда на большом дереве жизни бесполые веточки будут вырастать не слишком часто – так, чтобы не заглушить рост всей кроны. Конечно, в свой срок эти ветки будут отмирать, строго в соответствии с предсказанием Германа Мёллера, но само дерево выживет.
А почему это вдруг бесполые веточки вырастают так редко – неужели просто повезло? Возможно, дело не в везении. Просто те части дерева, где они вырастали часто, – населенные организмами, для которых переход к бесполости не представлял никаких проблем, – уже давно отсохли все, целиком. Сперва обильно растущие бесполые ветки заглушили сексуальную поросль, а потом погибли сами под грузом мутаций. Остались лишь те части дерева, где в механизм размножения оказались заложены какие-то гаджеты, мешающие переходу к бесполости (либо просто убивающие бесполых отщепенцев быстрее, чем те вытеснят сексуалов). Запомним этот интересный аргумент, он еще пригодится для понимания современных гипотез об эволюции мейоза.
Впрочем, здесь мы проходим в опасной близости от одного недоразумения, которое довольно долго омрачало многие рассуждения генетиков о сексе. Прежде чем перейти к еще одной группе гипотез о происхождении полового размножения, нам придется с этим разобраться.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bell G. A. C. The Masterpiece of Nature: The Evolution and Genetics of Sexuality. London: Croom Helm; Berkeley: University of California Press, 1982.
Clutterbuck A. J. A Mutational Analysis of Conidial Development in Aspergillus nidulans. Genetics. 1969. 63(2): 317–327.
Engelstädter J. Constraints on the Evolution of Asexual Reproduction. Bioessays. 2008. 30(11–12): 1138–1150.
Hörandl E. The Classification of Asexual Organisms: Old Myths, New Facts, and a Novel Pluralistic Approach. Taxon. 2018. 67(6): 1066–1081.
Janko K., Mikulíček P., Hobza R., et al. Asexual Species in Ecology and Evolution. biorxiv. 2021. 463480v1.
Judson O. P., Normark B. B. Ancient Asexual Scandals. Trends in Ecology & Evolution. 1996. 11(2): 41–46.
LibreTexts Biology. 2022. 43.1B: Types of Sexual and Asexual Reproduction. https://bio.libretexts.org
Nieuwenhuis B. P. S., James T. Y. The Frequency of Sex in Fungi. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. 2016. 371(1706): 20150540.
Schwander T., Crespi B. J. Twigs on the Tree of Life? Neutral and Selective Models for Integrating Macroevolutionary Patterns with Microevolutionary Processes in the Analysis of Asexuality. Molecular Ecology. 2009. 18(1): 28–42.
Williams G. C. Sex and Evolution. Princeton: Princeton University Press, 1974.
Глава седьмая, в которой биологи разбирались, кто с кем борется в теории Дарвина
Групповой отбор и адаптивный ландшафт
Недоразумение, о котором идет речь, известно под невинным названием «групповой отбор». В его основе лежит одно интересное свойство дарвиновской теории: она на первый взгляд кажется удивительно простой. Совсем не то что, к примеру, генетика. Когда последователи «лысенковской биологии» в СССР отстаивали право недоучек претендовать на постижение научных истин – и на этом основании отвергли генетику как что-то чересчур заумное для простого советского человека, – они при этом упорно присягали на верность дарвинизму. Видимо, дарвиновская идея эволюции путем естественного отбора, в отличие от генетики, ничем не оскорбляет веру дурака в то, что все на свете должно быть ему, дураку, легко доступно.
Главная книга Дарвина называется «Происхождение видов путем естественного отбора», а ее основную идею соратник Дарвина Герберт Спенсер (1820–1903) сформулировал как «выживание наиболее приспособленных». Небольшая перетасовка слов, и вот уже у нас получилось, что в ходе естественного отбора выживают наиболее приспособленные виды. Именно виды, стало быть, борются между собой за существование: волки с зайцами, а зайцы с морковкой. В такой формулировке это звучит глупо, но сто пятьдесят лет назад люди остерегались иронии и не стеснялись пафоса: все же речь идет об устройстве величественного храма жизни. А в этом храме действительно принято ежедневно приносить невинных антилоп в жертву львам, а муравьев – муравьедам. Кровавая жестокость природы так поражала воображение людей XIX века, что они вполне могли увидеть в ней таинственный двигатель эволюции – и ужаснуться этому видению.
К тому же и сам Дарвин дал своей книге подзаголовок «Сохранение избранных рас в борьбе за существование» (Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life), что по нынешним временам звучит уж совсем неприлично. Видимо, эти самые «расы» и должны бороться между собой за существование, и кажется логичным отождествить их с видами или хотя бы популяциями.
Однако, как следует из всего текста книги, под расами Дарвин имел в виду совсем не это, просто у классика еще не было под рукой подходящей терминологии. Естественно, никакие виды у Дарвина между собой не борются. Борьба зайцев с морковкой никакой эволюции не произведет: они друг для друга просто факторы внешней среды. Даже в тех редких случаях, когда виды действительно оспаривают одну экологическую нишу, как серые американские белки борются с рыжими европейскими в британских лесах, нет никакого механизма, который выжал бы из этой борьбы постепенное накопление полезных адаптаций. Разве что один вид сживет со свету другой или они постепенно разойдутся по разным нишам, чтобы не мешать друг другу.
На самом деле Дарвин везде пишет о соперничестве между индивидуумами: от того, какая из особей внутри вида принесет больше потомства, зависит, какие варианты наследуемых признаков в следующем поколении будут представлены более обильно, а какие, напротив, сойдут на нет. Чтобы морковка под действием зайцев стала горькой, как хрен, ушастикам следует из поколения в поколение съедать самые сладкие и вкусные морковины, и именно их гибелью будет оплачено распространение адаптации. Видимо, если перевести дарвиновские «расы» на современный язык, это будут именно подмножества популяции, несущие одинаковый аллель подверженного отбору гена. То есть от Дарвина рукой подать до «эгоистичного гена» Ричарда Докинза, а вот до борьбы видов между собой от него вообще не доехать. И тем не менее кто-то понял дарвинизм именно так и продолжал так понимать вплоть до ХХ века. Что ж поделать: ну нет в дарвинизме встроенной защиты от дурака, как и было сказано.
Из борьбы видов за существование следует много прекрасных небылиц. Например, если вид сплочен в единый коллектив, где все помогают друг другу, – такой замечательный вид, конечно, победит вид отвратительных эгоистов, так и норовящих подставить своего ближнего. А иначе откуда бы мог в живой природе появиться альтруизм? (На этот вопрос ученые ответили уже во второй половине ХХ столетия, и ответ оказался не слишком простым.) Ну и, разумеется, в такой борьбе за существование вполне могло возникнуть половое размножение, раз уж оно предохраняет виды и популяции от мутационных катастроф или позволяет им выживать при изменении условий среды.
Конечно, классики генетики начала ХХ века были не так уж наивны: для многих из них правильное понимание дарвиновского отбора было само собой разумеющимся, а другие просто не думали всерьез над этой проблемой. Однако недоразумения продолжали накапливаться вплоть до 1960-х, когда нью-йоркский профессор Джордж Уильямс (он уже появлялся в предыдущей главе нашей истории) написал книгу под названием «Адаптация и естественный отбор» (1966). Именно там вопрос «Кто с кем борется?» был поставлен в явном виде и получил четкий ответ. «Групповой отбор» не работает. Группы бороться не могут, а если бы и боролись, на таком моторе эволюция далеко бы не уехала. Борются особи и их гены. И в этой борьбе вид совсем не обязательно выигрывает – напротив, такой естественный отбор может привести его к катастрофе.
Львы-самцы имеют обыкновение убивать всех львят в прайде, кроме своих собственных детенышей, – много фильмов об этом можно посмотреть на телеканалах Discovery или Animal Planet. Для краснокнижного вида, находящегося под угрозой вымирания, это совершенно безответственное поведение. Ген доброты к детенышам был бы крайне полезен для львиного братства, если бы закрепился в популяции. Увы, закрепиться он не может: лев, который первым отказался бы от инфантицида, проиграл бы генетическое соревнование другим львам, потому что детенышей гуманного льва (вместе с его гуманными генами) убили бы его сородичи, а он как дурак продолжал бы умиляться чужим львятам, играющим в тени акаций. А вот у полосатых гиен убивать детенышей не принято. Полосатая гиена как биологический вид сравнительно благополучна, львы под угрозой вымирания, причем и тех и других привел в это состояние естественный отбор. Как ни странно, отбор может не только совершенствовать адаптации, но и вести виды к уничтожению.
Именно об этом шла речь, когда мы обсуждали идею Вейсмана о роли секса как поставщика материала для естественного отбора: эволюция не заглядывает в будущее, естественный отбор не видит дальше следующего поколения. Если от поколения к поколению частота гена не увеличивается, ген не закрепится в популяции, каким бы полезным он ни был в свете грядущего через 10 000 лет ледникового периода.
А вот еще одно ошибочное рассуждение, к которому дарвиновская идея прямо-таки подталкивает своей кажущейся простотой. Раз отбор благоприятствует выживанию самых приспособленных, значит, под его благотворным воздействием все на свете будут становиться все более приспособленными, и так вплоть до абсолютного совершенства. Если с таким же нелепым чистосердечием подойти к закону всемирного тяготения, можно прийти к следующему выводу: раз все на свете притягивается, значит, рано или поздно вся материя во Вселенной свалится в одну большую кучу. В отличие от генетиков начала ХХ века, у физиков все-таки были какие-то уравнения, точнее, уравнения Общей теории относительности, одно из решений которых – Вселенная, в которой все тела и не думают слипаться вместе, а, напротив, разлетаются в бесконечность. Просто тяготение – это «дифференциальный» эффект, то есть то, что происходит с крупицей материи в крошечной клеточке пространства в определенный момент времени. А эволюция Вселенной – результат какого-никакого интегрирования. Вот и естественный отбор тоже действует дифференциально. А при интегрировании уравнений может случиться всякое.
Впрочем, такими терминами эволюционисты предпочитают не оперировать, а значит, и нам надо быть проще. Вот более наглядная аналогия: вода течет сверху вниз, с возвышенных мест к низинам. Казалось бы, со временем вся вода должна стечь в самую низкую из низин – Мертвое море. Однако это не так. В Мертвое море вообще впадает только одна приличная река, Иордан. Остальная вода останавливается гораздо выше: в Каспии, в Мировом океане, а то и в Большом Соленом озере на высоте 1200 метров над уровнем моря. Вода бы и стекла пониже, но дороги для нее нет.

Примерно так же и с эволюцией: у нее есть свои «бессточные бассейны», где отбор нашел локальный оптимум приспособленности, но дальше двинуться не может. Биологи-теоретики говорят об «адаптивном ландшафте»[4], и эта метафора неплохо объясняет, почему мы видим вокруг себя не только людей, но и стрекоз, папоротники и возбудителей дизентерии, каждый из которых вовсе не эволюционирует в человека, а если бы и захотел, вряд ли смог бы, как бы ни трудился над ним естественный отбор. Целакант или мечехвост[5] вообще застряли в своих уютных долинах адаптивного ландшафта на сотни миллионов лет, совершенно не меняясь. Отбор сделал с ними все, что мог, и на этом успокоился. Когда через некоторое время (уже скоро) мы будем обсуждать разделение живых существ на два пола, то и дело будет возникать вопрос: «Ну почему у них все устроено так нелепо и явно во вред себе?! Можно ведь просто договориться между собой и организовать жизнь гораздо эффективнее!» Но нет, нельзя. Идеал очевиден, но пути к нему не существует. Вполне возможно, что и с человеческим обществом так же, хотя мы, кроме отбора, полагаемся еще и на разум – на него вся надежда.
А вот еще одно заблуждение, связанное с предыдущим: если отбор увеличивает приспособленность и если все живое выковано отбором, значит, каждая деталь и каждое свойство живого должны служить какой-то разумной цели. Эта идея получила название «адаптационизм», и особенно изящно ее дезавуировал американский биолог Стивен Джей Гулд (1941–2002). К высмеиванию адаптационизма Гулд привлек Киплинга с его сборником «Just So Stories». На русский это название переводится обычно как «Просто сказки», но точнее, наверное, «небылицы» или «россказни» – в английской идиоме предполагается, что говорящий несет очевидную чепуху просто для забавы и вовсе не намерен отвечать на конструктивную критику. Среди этих «небылиц» есть, например, история о том, откуда на шкуре леопарда появились пятна, и, по мнению Гулда, это забавное киплинговское объяснение – такая же беспочвенная выдумка, как многие из адаптационистских идей. В целом ряде случаев на вопрос: «Почему это живое существо вот такое?» – ответ: «По-другому не получилось» – будет куда более корректным с точки зрения биологии, чем любые рассуждения о приспособленности. При этом, как ни парадоксально, Дарвин все равно прав, и каждый шажок к этой кажущейся случайности был сделан под строжайшим контролем естественного отбора.
В 1979 году Гулд вместе с Ричардом Левонтином (1929–2021) написал статью, которая стала одной из самых цитируемых в истории биологии. Она называется «Пазухи сводов собора Святого Марка и парадигма Панглосса». Это, конечно, кошмар для русского переводчика и популяризатора, одни «пазухи сводов» чего стоят (по-английски это spandrels). Есть у популяризаторов проблема и посерьезнее: в русской традиции просто не принято, чтобы профессор-биолог разбрасывался архитектурными терминами или походя ссылался на героя Вольтера по имени Панглосс, ну кто на биофаке читал Вольтера?! При этом мы, конечно же, намного культурнее и эрудированнее американцев, и наше университетское образование несравненно лучше… в общем, с Панглоссом и пазухами свода у популяризаторов есть проблемы. Так вот, означенный Панглосс утверждал, что «всё к лучшему в лучшем из миров», и это и есть та самая «панглоссианская парадигма», за которую Гулд шпыняет адаптационистов.
А «пазухи сводов» – это вообще, похоже, путаница, и на самом деле авторы имели в виду «пандативы», или «паруса». Это вот что: если вы были в венецианском соборе Святого Марка или в другой церкви с красивым круглым куполом, хоть даже в храме Христа Спасителя, то там в основании купола по углам есть такие треугольные части, числом четыре штуки. На них иногда рисуют четырех евангелистов. Зачем они? Неужели специально для того, чтобы нарисовать этих евангелистов? Нет, конечно. Просто такие штуки непременно получаются, если вам надо увенчать квадратное помещение круглым куполом. Это, по мысли Гулда, как раз и есть пример, когда просто «так получилось», потому что иначе и не могло. При этом, если вдуматься, почему у природы или у архитектора по-другому получиться не могло, можно прийти к гораздо более глубокому пониманию вещей, чем если бесконечно вникать в мистический смысл существования именно четырех, а не трех или пяти евангелистов. Понять ограничения эволюции в некотором смысле гораздо важнее, чем восхититься ее возможностями, утверждает Гулд.
О том, зачем нужен секс, биологи задумались в начале ХХ века, а Гулд придумал свою метафору ближе к концу. Не то чтобы пятьдесят лет никто не понимал того, до чего он додумался, но ясность формулировки экономит время и избавляет от ненужных сложностей. В случае полового размножения, например, не так уж просто уяснить, что «Откуда оно взялось?», «Почему оно не исчезает?», «Почему оно именно такое?» и «Чем оно полезно?» – это, возможно, вообще четыре совершенно разных вопроса с разными ответами.
Впрочем, мы отошли довольно далеко от магистральной линии рассказа, пора возвращаться. Все это отступление понадобилось для того, чтобы сказать вот что: ранние гипотезы о биологическом смысле полового размножения, от идей Августа Вейсмана до храповика Мёллера и далее, явно или неявно исходили из возможности группового отбора. Но чтобы объяснить секс, мало доказать, что он может быть полезен, к примеру, для избавления от мутационного груза. Надо понять, какое преимущество он дает здесь и сейчас. Как минимум, это преимущество должно сказаться быстрее, чем отбор расправится с сексом из-за его «двойной цены». А «мутация к бесполости», наоборот, должна понести наказание от отбора еще до того, как эти мутанты вытеснят тех, кто размножается по старинке, с помощью секса. Огромность этой биологической проблемы стала чуточку очевиднее после выхода книги Джорджа Уильямса – не случайно он посвятил теме полового размножения одну из своих последующих книг, «Секс и эволюция» (1975).
Идея группового отбора принесла столько путаницы, что в какой-то момент в англоязычной биологической литературе этот термин стал едва ли не ругательством (надо признать, что российские биологи в этом вопросе сохраняли суверенитет, будь то к добру или к худу, и часто отзывались о групповом отборе с уважением). Но, очевидно, не стоит поспешно заключать, будто группового отбора не бывает нигде и никогда. В последние два десятилетия эта концепция сильно поправила свою репутацию. В прошлой главе мы немного пофантазировали о том, как групповой отбор мог бы отрегулировать частоту «мутаций к бесполости». С тем, что такой сценарий ничему не противоречит, не стал бы спорить даже самый ядовитый оппонент концепции группового отбора Ричард Докинз. Просто его теории пока толком не существует, и все, о чем можно рассуждать, да и то с осторожностью, – это частные случаи.
Эта глава была написана не потому, что автору нравится самоуверенно выставлять ученым прошлого отметки за сообразительность. На самом деле проблемы, из-за которых эти биологи спорили, порой едко издеваясь друг над другом, в конце концов составили твердый фундамент для современной теории эволюции. А она, в свою очередь, позволила рассуждать о происхождении секса на совершенно другом уровне. В частности, «дифференциальный» характер эволюционных законов привел к тому, что сегодня невозможно выдвигать никакие эволюционные гипотезы без математического моделирования или, на худой конец, компьютерных симуляций. Такова логика развития современной науки. Хотя, возможно, в этой книжке логика вывернута наизнанку: мы потому и взялись за тему секса, что она позволяет ностальгировать о классической простоте и ясности, с которой мыслили генетики прошлого века.
БИБЛИОГРАФИЯ
Журавлев А. Похождения видов: вампироноги, паукохвосты и другие переходные формы в эволюции животных. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022.
Dawkins R. The Evolution of Evolvability. IEEE Symposium on Artificial Life. 1987.
Dawkins R. The Selfish Gene. 40th anniversary edition. Oxford: Oxford University Press, 2006. (Докинз Р. Эгоистичный ген / Пер. Н. Фоминой. – М.: АСТ: Corpus, 2013.)
Dietrich M. R., Skipper R. A. A Shifting Terrain: A Brief History of the Adaptive Landscape. The Adaptive Landscape in Evolutionary Biology. Ed. E. I. Svensson, R. Calsbeek. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 3–15.
Eldakar O. T., Wilson D. S. Eight Criticisms Not to Make About Group Selection. Evolution. 2011. 65(6): 1523–1526.
Gavrilets S. Fitness Landscapes and the Origin of Species. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
Gould S. J., Levontin R. C. The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme. Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences. 1979. 205(1161): 581–598.
Pinker S. The False Allure of Group Selection. The Handbook of Evolutionary Psychology. Ed. D. Buss. New York: Wiley, 2015.
Sober E., Wilson D. S. Adaptation and Natural Selection Revisited. Journal of Evolutionary Biology. 2011. 24(2): 462–468.
Williams G. C. Adaptation and Natural Selection. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966. (Last edition, 2019.)


