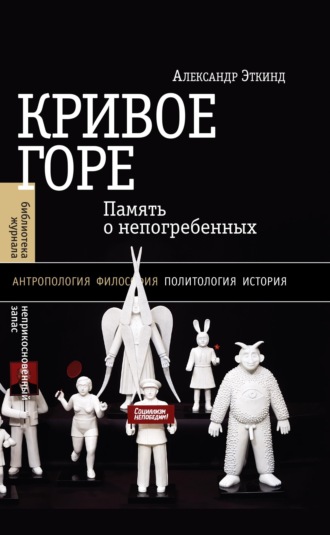
Александр Эткинд
Кривое горе. Память о непогребенных
3. ПРИТЧА НЕУЗНАВАНИЯ
В 1930 году Григория Эткинда арестовали в его ленинградской квартире. Пять месяцев спустя его сын, придя из школы, наткнулся на человека с седой бородой, сидящего на лестнице. «Подвиньтесь, пожалуйста», – попросил мальчик и услышал в ответ: «Фима, это я». Ночью отец рассказал двенадцатилетнему Ефиму, что с ним произошло. Как и сотни других «нэпманов», открывших несколькими годами ранее свой маленький бизнес, Эткинда арестовали за то, что он не мог заплатить огромный налог. Их держали в переполненных камерах, лишали сна, пытали духотой, ослепительным светом и постоянными допросами95. Через несколько месяцев офицер объявил перед строем, что четверо, и среди них Эткинд, будут расстреляны. Их вывели и посадили в автозак. Эткинда не расстреляли: из машины его выбросили на тротуар около дома, где он жил. Он сел на лестнице и стал ждать, что кто-нибудь вернется домой; он боялся, что вся семья тоже арестована. Наконец он увидел Ефима и понял, что его сын не узнал его. На следующее утро Григорий Эткинд пошел к парикмахеру, сел в кресло и попросил «полного ремонта». Но психическая травма ремонту не подлежала. Ефим Григорьевич писал, что отец так и не оправился от заключения96.
Глубокий ученый и точный мемуарист, Ефим Эткинд знал, как начать свой рассказ так, чтобы чувство ужаса не отпускало читателя. Он начал со сцены на лестнице, с того, как мальчик однажды пришел из школы и не узнал собственного отца. Для усиления эффекта Ефим добавил в свой рассказ два литературных примера. Он сравнил переживания своего отца – моего деда – с инсценированной казнью, которую пришлось испытать Достоевскому в 1849 году. Ефим говорил, что и в 1990-х годах, когда он писал о Достоевском, он все еще думал о невероятном чувстве, которое пережил его отец. Другая книга, которую вспомнил Ефим, – «Страшная месть» Гоголя: «Все, что я услышал, показалось мне еще страшнее, чем гоголевская “Страшная месть”. Можно ли было жить с этим? Не помню, как я справился с отвращением к миру»97.
Если вчитаться в эту повесть, реакции двенадцатилетнего Фимы окажутся понятнее. «Страшная месть» (1832) повествует о магии, убийстве и инцесте. Колдун соблазняет собственную дочь, мертвецы встают из могил, земля трясется, как живая. Под конец зло наказано очередным вмешательством магических сил и побеждает добро. Начало повести, однако, перекликается с ужасным и неотмщенным опытом Григория и Ефима. Повесть открывается сценой свадьбы, на которую колдун приходит переодетым, так что его не узнает даже собственная дочь. Вид чужака пугает гостей, но им кажется, что они его уже где-то видели. Может быть, он явился из ада? Неузнанный отец – родное, ставшее незнакомым и страшным. Это и есть фрейдовское жуткое.
Григорий Эткинд не был колдуном. Он был мелким предпринимателем, который перерабатывал старые книги и журналы в оберточную бумагу. Обращение, которому он подвергся в советской тюрьме, изменило его до неузнаваемости. Я стал собирать подобные истории и не без удивления обнаружил, что они не так уж редко встречаются в рассказах о возвращении из ГУЛАГа. Одни истории неузнавания похожи на правду, другие – определенно вымышлены. В большей их части, вероятно, память смешана с воображением.
Почему неузнавание?
После 1953 года миллионы возвращались из лагерей домой, хотя мало у кого был дом98. Те, кто никогда не видел ГУЛАГа, смотрели на возвращенцев со смешанным чувством. В этой главе мы услышим несколько историй, в которых вернувшихся из ГУЛАГа не узнавали близкие. Я не хочу сказать, что такое неузнавание постоянно случалось в реальной жизни; но этот мотив часто встречается в мемуарах, литературе и фильмах о ГУЛАГе. Этим он и интересен для исследователя99.
Узнавание – концепт классической поэтики, который заимствовали философия и политическая теория. К проблеме индивидуального и коллективного узнавания, развитой Гегелем, а впоследствии – франко-русским философом Александром Кожевым (Кожевниковым), возвращались Чарльз Тейлор, Пьер Бурдьё и другие философы100. По-русски эта проблема осложнена наличием двух разных слов – «узнавание» и «признание», – которые в других языках часто совпадают в одном более общем понятии (например, английское recognition). Нэнси Фрэзер и Аксель Хоннет сопоставляют борьбу за узнавание/признание, которая направлена на уважение культурных различий, и борьбу за перераспределение, которая ставит целью экономическое и правовое равенство101. Применение этих идей к социалистическим обществам пока не обсуждалось.
Аристотель в «Поэтике» определял узнавание как «перемену от незнания к знанию, [а тем самым] или к дружбе, или к вражде [лиц], назначенных к счастью или к несчастью»102. В зависимости от случившегося счастья или несчастья неузнавание играет разные роли в трагедии и комедии. В комедии неузнавание («анагноризис» у Аристотеля) изменяет статус героев и деконструирует социальный порядок103. В трагедии неузнавание не является, как в комедии, двигателем сюжета, но помогает рефлексии над происходящим, а иногда обеспечивает кульминацию. Если акт неузнавания происходит в кругу семьи или среди друзей, он демонстрирует силу трагического рока, который оказывается сильнее любви. Судьба меняет героя до неузнаваемости: его не могут узнать даже те, кто его любит, как это произошло с женой и сыном Одиссея, в отличие от узнавших его старой няньки и верного пса. Танкред убивает Клоринду, не узнав ее. Эдип не узнает отца, которого он раньше никогда не видел. Гамлет колеблется, прежде чем признать отца в Призраке. Неузнавание, помимо прочего, порождает феномен самозванчества, построенного на отрицании идентичности собственного существования, которому предпочитается чужое. В пушкинском «Борисе Годунове» есть трогательная сцена, когда Самозванец, заставив всех поверить в свое царское происхождение, открывается той, которую любит. Только когда все признали ложную идентичность, которую создал себе Самозванец, он понимает свое глубинное желание: оно состоит в том, чтобы было признано его истинное Я. Самозванчество, свойственное феодальной России, сыграло необычно важную роль и в советской истории104. Тому был ряд причин, и в частности то, что самозванцы создают необычайно выразительные аллегории для важнейших идей об идентичности, власти и узнавании.
В 1919 году юный Осип Мандельштам сказал своей будущей жене, что две самые важные для него темы – это смерть и узнавание. Спустя десятилетия Надежда Мандельштам вспоминала: «Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба»105. Определение узнавания как осознания судьбы связано с мандельштамовским пониманием смерти: «У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни»106. Но одинокая смерть Осипа в дальневосточном лагере – типичная смерть доходяги – была далека от «оправдания жизни». Доходяги – полутрупы, чье страдание лишало их достоинства, надежды и памяти (см. подробнее в главе 2); до некоторой степени все советские люди были такими доходягами, писала Надежда: «И снаружи, и за колючей оградой все мы потеряли память»107. Однако по разные стороны колючей проволоки эта трансформация проходила по-разному, в результате чего возникали непонимание, провал в коммуникации, взаимное неузнавание.
Воспоминания Надежды Мандельштам – замечательный текст об узнавании, непревзойденный памятник Другому и, возможно, самое важное свидетельство горя из многих, созданных в Советскую эпоху. Герой этих мемуаров – бессмысленная жертва режима; он один из тех многих, кого можно было убить, но кем нельзя было пожертвовать, потому что, умирая, он не представлял ценности для убийц. Автор и читатели признают в Мандельштаме великого поэта и уникальную личность, но знают безличный, нежертвенный характер его медленной смерти в лагере. Его жена описывает вызов, брошенный им властям, но она не стремится интерпретировать смерть Мандельштама как самопожертвование. Терпеливо и старательно, будто частный детектив, Надежда выясняет обстоятельства гибели мужа. Риторический эффект в ее воспоминаниях создается контрастом между любовью автора, к которой присоединяется читатель, и бессмысленностью того, как был уничтожен Мандельштам. В воспоминаниях Надежды Мандельштам этот эффект накладывается на важную черту советского горя – неизвестность, окружавшую смерть тех, кто стал жертвой режима. Время, место и обстоятельства их гибели оставались неузнанными, как будто эта гибель одновременно была государственной тайной и неважной деталью, которую не стоило и упоминать. Неопределенность потери означала, что главной характеристикой работы горя стала ее незавершенность.
Историю неузнавания я считаю тропом, который означает больше, чем в нем говорится. Мой интерес к этому тропу – одновременно риторический и исторический. Историки знают, что, возвращаясь из лагеря к своим семьям, жертвы лагерей испытывали множество личных и социальных проблем108. Примо Леви окончил жизнь самоубийством через много лет после того, как описал свою жизнь в нацистских концлагерях. Менее известна агония Варлама Шаламова (см. главу 5). Историки литературы о Холокосте считают, что «лишь немногие из выживших в лагере думали, что, несмотря на все испытания, они остались “собой”»109. В воспоминаниях жертв ГУЛАГа и их родственников нередко повторяется то же клише: из лагеря жертва «вернулась другим человеком». Потеря идентичности выжившего – он все еще жив, но это уже «другой человек» – становится видимой и ужасает свидетелей. Если внутренний взгляд на эту трансформацию неясен и невыразим, то акт неузнавания выжившего его семьей воплощает потерю идентичности в кратком и ясном сюжете. Горькая ирония состоит в том, что этот же сюжет демонстрирует победу государства: оно добилось своей цели, «переделав» человека до неузнаваемости. Одновременно сюжет неузнавания передает отчаяние выжившего и его семьи: они ощущают взаимное отчуждение в тот самый момент, когда состоялась их долгожданная встреча. Подчеркивая внешние, физические перемены в теле, лице, осанке, одежде и цвете волос, история неузнавания становится притчей о глубинном чувстве внутренней, психологической перемены. В культурной памяти притча неузнавания выражает ужас перед лагерями, вину тех, кто их избежал, и провал в коммуникации между двумя частями советского общества.
Неузнавание вернувшегося
В 1985 году Булат Окуджава написал рассказ «Девушка моей мечты», отрефлексировав в нем свои воспоминания о том, как в 1947 году из ГУЛАГа вернулась его мать110. Главный герой рассказа – двадцатидвухлетний студент, чья мать провела в лагере десять лет. Бедный и одинокий студент изучает творчество Пушкина в Тбилисском университете и живет «без отчаяния» в коммунальной квартире. У студента осталось несколько фотографий матери: «Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный»111. Определенную роль в рассказе играет сосед юноши, Меладзе, «пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть». Сосед не разговаривает со студентом и не смотрит ему в глаза. Постепенно герой понимает, что сосед недавно вернулся из лагерей. Теперь он кажется студенту призраком: «Никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку…» Вдруг приходит телеграмма от матери: ее освободили, она едет к сыну на поезде из Казахстана. Студент охвачен внезапным ужасом, что не узнает мать: а вдруг она стала седой, сгорбленной старухой? Еще больший ужас доставляет ему мысль, что мать поймет, что сын ее не узнал, и оттого ее страдания станут еще тяжелее. Студент отгоняет этот двойной ужас мыслями о том, как счастливы они будут вместе и как они будут говорить о разлуке и о том, что с ними за эти годы произошло.
Встретившись на вокзале, мать и сын сразу узнали друг друга. Внешне мать почти не изменилась, она осталась молодой и сильной. Дома сын пытался спросить у матери, как она жила в лагере, но глаза ее «были сухими и отрешенными», а лицо «застыло, окаменело». Она не отвечала на вопросы, которые задавал ей сын, но повторяла их, как эхо («Ты любишь черешню?» – «Что?» – «Черешню ты любишь? Любишь черешню?» – «Я?»). Зато, когда в комнату сына и матери зашел в гости старый лагерник Меладзе, мать стала говорить с ним так, что сын их не понимал. Общаясь странными словами и жестами, двое бывших заключенных рассказывали и сравнивали свой лагерный опыт. В их речи мелькали географические названия, непонятные сыну. Они будто говорили на тайном языке, неизвестном герою рассказа.
Пытаясь вернуть мать к жизни, сын повел ее в кино на свой любимый трофейный фильм «Девушка моей мечты»112. Для студента этот фильм был как «драгоценный камень»; героиня в исполнении Марики Рёкк «танцевала в счастливом неведенье» на берегах голубого Дуная. Сын надеялся, что фильм произведет на мать такое же действие, как на него самого: «чудо, которое можно прописать вместо лекарства». Но мать не могла вынести это «яркое, шумное шоу» и ушла в середине сеанса. Так между матерью и сыном легло трагическое отчуждение. В кинотеатре у сына мелькнула «неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная» (интересно, что эта верная мысль кажется ему неправдоподобной).
В начале рассказа мы узнаем, что двадцатидвухлетний герой не был готов к отношениям со своими ровесницами: ему мешала «тайна черного цвета» – арест матери. Но когда она вышла на свободу, чувства вины и стыда только усилились. Теперь любовь к другой женщине стала бы предательством матери уже не потому, что она его мать, а потому, что она вернулась из ГУЛАГа. Кинематографическая «девушка моей мечты» в рассказе выступает как переходный объект влечения, к которому можно тянуться, не предавая матери. Немецкая кинозвезда Марика Рёкк, сыгравшая главную роль в фильме, казалась герою неотразимой; она ведь была недоступной иностранкой. Студент чувствовал, что его восхищение Марикой разделял тогда весь Тбилиси: «все сходили с ума» по «девушке моей мечты». Но со своими мечтами о прекрасной иностранке и сочувствием к многострадальной матери студент остается одинок, может быть, навсегда. Неустоявшаяся смесь этих чувств позже проявится в несовместимых друг с другом культурных явлениях «оттепели», которым Окуджава дал свой голос. Другой знаменитый бард и поэт – Владимир Высоцкий – на самом деле женился на иностранной кинозвезде, которую впервые увидел на экране.
Неспособность матери и сына восстановить то, что их связывало, – трагедия. Внутренняя трансформация, которую мать пережила за десять лет в ГУЛАГе, настолько глубока, что мать стала «какая-то совсем другая», – с ужасом говорит герой своему соседу. Тот, сам бывший зэк, понимает, что произошло; автор и читатель, не имеющие лагерного опыта, могут только сочувствовать тем, кто его пережил. Этот разрыв особенно болезнен потому, что проходит через отношения матери и сына; необычно хорошее физическое состояние матери делает эти отношения еще более невыносимыми. Мать не может рассказать сыну о том, что произошло с ней, и у них нет способа преодолеть их взаимное отчуждение. Наказанный ее холодностью, сын больше не задает вопросов: «Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался». Две жизни – в лагере и «на свободе» – несопоставимы113.
В «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург есть симметричная история с неузнаванием. Анагноризис здесь стал игрой, в которой хозяева лагеря для развлечения причиняют дополнительную боль измученной матери. В 1948 году будущий автор этих воспоминаний жила в ссылке на Колыме. Сложными путями ей удалось вызвать к себе шестнадцатилетнего сына – будущего писателя Василия Аксенова. Сын не видел мать одиннадцать лет. Теперь они встретились в доме большого магаданского начальника – бухгалтера Дальстроя. Хозяйка дома многое сделала для того, чтобы помочь Васе воссоединиться с матерью. В этот вечер у нее была вечеринка, и, чтобы развлечь гостей, она предложила Васе узнать, кто из двух пришедших женщин его мать. Мать и сын узнали друг друга, но Гинзбург назвала сына именем его покойного старшего брата, Алеши. Васю она помнила только четырехлетним, и, хотя она знала, что перед ней не Алеша, а Вася, и вполне контролировала себя, в миг встречи у нее «непроизвольно» вырвалось: «Алешенька!» На мгновение горе по сыну, погибшему в блокаду, перевесило радость встречи с другим, живым сыном114.
Этот эпизод воспоминаний Гинзбург относится к тому же историческому моменту, что и «Девушка моей мечты» Окуджавы. Окуджава пишет рассказ, включая в него автобиографические элементы, а Гинзбург – воспоминания, то есть правдивую историю о прошлом с некоторой долей преувеличения или отбора эпизодов. В обоих нарративах будущие герои «оттепели» встречаются с репрессированными матерями. В обоих нарративах есть момент неузнавания. Рассказ Окуджавы написан с точки зрения сына, воображающего (хотя бы на мгновение), что не узнает мать после долгой разлуки. В рассказе Гинзбург мать (хотя бы на мгновение) не узнает сына после долгой разлуки. Анагноризис здесь стал социальной игрой: многострадальные жертвы должны (не) узнать друг друга для развлечения благосклонных к ним хозяев. Но самое важное в сравнении двух этих нарративов – то, что произошло после неузнавания. Герой Окуджавы остается отчужден от матери; в его случае страх неузнавания предвосхитил отчуждение в реальной жизни. Напротив, Гинзбург и Аксенов сразу преодолели взаимное отчуждение. В первую же ночь мать рассказала сыну о своем аресте и жизни в лагере, и, как говорит Гинзбург, этот устный рассказ стал первой версией ее будущих воспоминаний. В обоих нарративах момент неузнавания выражает масштаб перемены, случившейся со всеми, кто стал его участником. Само неузнавание не определяет, однако, как эти отношения будут развиваться в дальнейшем.
Неузнавание вернувшимся
Героя повести Василия Гроссмана «Все течет» (1955—1963) Ивана Григорьевича арестовали, когда он был студентом. Двадцать девять лет он провел в лагере. Невеста и друзья долго помнили его, но у всякой памяти есть предел. Гроссман анализирует забывание близкого человека с помощью советского понятия прописки, обогащая его фрейдовской психологической теорией и сказочной жутью: «Человек сперва выписался из жизни, перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как ванька-встанька, пугал неожиданностью своего внезапного, секундного появления»115. Вина выживших проявляется в страхе или даже враждебности к жертве, пока ее еще помнят.
Самого Ивана Григорьевича постоянно беспокоит проблема узнавания. После освобождения из лагеря в 1955 году он увидел во сне покойную мать. Она шла вдоль лагерной дороги, забитой тракторами и грузовиками. «Мама, мама», – звал Иван, но она не слышала его за гулом моторов. «Он не сомневался, что она в сутолоке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась, но она не слышала его, не оглянулась». Страх измениться до неузнаваемости, измениться так, что его не узнает даже мать, скоро осуществится в реальности его возвращения. Двоюродный брат Ивана, успешный ученый Николай Андреевич, узнает его как физического индивида, но не признает его как моральную личность. Тридцать лет назад братья были близки, но при встрече в Москве оба ощущают дискомфорт. Николай хочет спросить Ивана о его жизни в лагере и повиниться в тех компромиссах, на которые ему, типичному советскому интеллигенту, пришлось идти ради выживания «на свободе». Но он не может заставить себя ни спрашивать, ни признаваться. Оба брата выжили, оба чувствуют вину за это, но чувства их столь же различны, как и способы выживания. Теперь они не готовы обсуждать катастрофический разрыв в их опыте. Чтобы передать этот разрыв, Гроссман прибегает к поразительной метафоре: теперь эти братья друг для друга как иностранцы. Лицо Ивана кажется Николаю «чужим, недобрым, враждебным», и «такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого». Где, однако, холеные иностранцы и где старый зэк? Но и Иван Григорьевич тоже не хочет делиться с двоюродным братом своими болью и горем: «Иван Григорьевич представил себе, как… он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их». Чтобы не вдаться в обсуждение своего горя по лагерным друзьям – единственной темы, которая теперь для него важна, – он выбирает для лагерного опыта экзотизирующие метафоры: говорить о нем – все равно что рассказывать «сказки тысячи и одной полярной ночи».
Иван Григорьевич и Николай Андреевич внешне узнают друг друга. Они не отрицают, что остались родственниками, сохранившими взаимную память с того времени, когда знали и любили друг друга. Однако они не признают друг друга как собеседников, способных разделить совместные чувства. Оба переживают перемены, произошедшие с другим, не просто как дальнейшее развитие и старение того же самого человека, но как радикальную трансформацию идентичности: как будто человека, которого помнишь, подменил собой незнакомец, иностранец или даже самозванец. «Где же он, Коля?..» – спрашивает себя Иван Григорьевич; кто из них настоящий – тот Коля, которого он помнит, или тот, что стоит сейчас перед ним? Гроссман несколько раз подчеркивает, что оба брата в конце концов сказали друг другу «прямо противоположное» тому, что намеревались сказать. От некогда любимого двоюродного брата бедствие неузнавания переносится на некогда любимый, но тоже не вполне родной город. Иван Григорьевич едет в Ленинград, где жил до ареста, и чувствует, что одновременно «узнавал и не узнавал город»116. Он видит на его улицах мертвых товарищей по лагерю, ему кажется, что они приветствуют его из-за угла, и он чувствует «дух лагерной казармы», который, как ему кажется, распространился отсюда на всю страну.
Отныне Иван Григорьевич будет бороться с навязчивым желанием вернуться в свой лагерь или то, что от него осталось. По ходу повести он, впрочем, обретает работу, комнату и женщину. Она вскоре умирает, но он продолжает говорить с ней о любви, истории и лагерях. Повесть заканчивается поездкой Ивана Григорьевича на Кавказ, туда, где стоял родительский дом (см. главу 2). Дома на этом месте уже нет, но Иван вознагражден: ему показалось, что руки покойной матери коснулись его головы. Подобно таинственным пилигримам, описанным в одном из первых стихотворений Бродского (см. главу 5), в конце своего паломничества Иван Григорьевич находит утешение в неизменности своего жизненного мира. Несмотря на все усилия государства переделать людей, вещи и страну до неузнаваемости, «мир останется прежним, да, останется прежним», – писал Бродский в 1958 году117. «Все же тот же, неизменный» – такими словами Гроссман заканчивает повесть об Иване Григорьевиче. Все течет, но он остался узнаваем, и в этом его победа.







