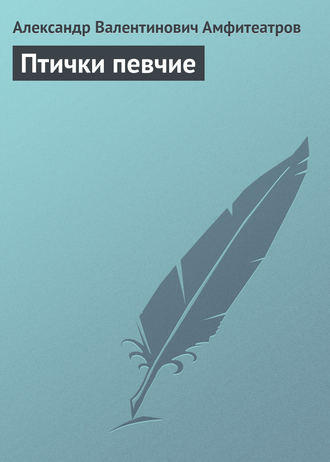
Александр Амфитеатров
Птички певчие
В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешанным окном…
Полонский даже задрожал; схватил спутника за руку и, чуть не плача, заговорил:
– Слышите? Слышите? И этак-то – каждый день, раз по десяти… целые сорок лет!.. И зачем только я написал злополучные стихи? Зачем?..
Кочевые отголоски и народные перепевы, еще живые, как рассказывают старики, в хороших таборах шестидесятых годов, теперь совсем заглохли, мелодии их исчезли не только из репертуара, но и из памяти цыган. А, должно быть, мелодии были чудные. В Москве, в Грузинах, были два грязненьких трактирчика, – теперь уничтоженные: «Капков» и «Молдавия» – постоянный притон цыган. Окончив свои ресторанные часы, «фараоново племя» ехало в эти кабачки пить утренний чай и делить ночной заработок. В «Капковом» трактире машина играла «Участь» – старинную цыганскую песню: «Еще с тех времен, когда не было оседлых таборов», – объяснял мне старый цыган. Вал с «Участью» ставился только раз в день, в семь часов утра, открывая «чистый ресторан» для публики. Несмотря на ранний час, несмотря на грязноватый характер трактира, слушать «Участь» всегда набиралось много народу.
– Потому что, – хвастался распорядитель, – песни этой вы нигде не услышите, кроме как у нас: все ее позабыли! А по жалостности своей она кого хошь может вогнать в слезу.
Действительно, может. Для меня самая лучшая трактирная машина – одиннадцатая казнь египетская. Этот инструмент вместе с аристоном, выдумал сам Вельзевул в минуту, когда Гайдн довел его до жесточайшей хандры своими богоугодными ораториями. И, однако, когда машина впервые грянула для меня «Участь», я просто онемел от новизны впечатления… В воздухе точно свежее стало, повеяло целиной, нераспаханною степниною – такие это были могучие, широкие и тоскливые, мочи нет, тоскливые звуки! Так осиротелая чайка звенит над морем усталыми крыльями, и стонет, и плачется о птенцах своих.
Но то был уже голос из-за могилы: такое пение умерло и в землю зарыто. По крайней мере, даже намека на что-либо подобное не слыхано в таборах с тех пор, как выбыла из их среды и затем довольно скоро умерла знаменитая Пиша Викулова. Были «последние римляне», «последние греки», «последние могикане» – Пиша была «последнею цыганкою». Я не любитель и не знаток цыганского пения, но Пишу было трудно слушать без волнения. В самом диком жанре Пиша была таким же редким вокальным талантом, как Зем-брих, Лукка, Дюран – в жанре оперном. В ее пении все было необыкновенно – все, начиная с голоса, терявшегося где-то на границе контральто и баритона. В adagio ее песни превращались в тяжкий стон какой-то неведомой, но безмерно страждущей силы. Казалось, злой дух, прикованный крепкою цепью к степному кургану, выплакивает ветру свою муку, ненависть и стыд неволи. Когда же песня оживлялась, развиваясь в удалое allegro, хотелось думать: «А вот и сами ветры степные – „стрибожьи внуци“ – помчались веселым полетом, сгибая крыльями высокую траву…»
Бывают недюжинные фигуры; видеть их раз – значит, запомнить навсегда. Пиша Викулова – эта полубогиня «веселящейся Москвы» конца семидесятых и начала восьмидесятых годов – стоит передо мною как живая. Вот она – на концертной эстраде: огромная, смуглая женщина, красивая, упитанная, нарядная… водит по публике великолепными мрачными глазами, словно июльская ночь вспыхивает зарницами. Разношерстная толпа толпится у эстрады, точно у подножия кумира…
Враги твои много сулили…
Хотели меня все прельстить.
Но будь ты уверен, мой милый,
Что я не могу изменить! –
выводит Пиша неестественно глубокие и тяжеловесные, поистине бархатные ноты. А сама – именно, как идол индийский – вся сверкает драгоценностями; у нее даже туфли были отделаны черным жемчугом. Женщина купалась в золоте, как Даная, и умерла без гроша за душою. Она видела у ног своих, без преувеличения, весь цвет русского общества: «послов, софистов, и архонтов, и артистов». Ее молили не о любви… куда уж! но хоть об одном ласковом взгляде. И стоило ей поднять ресницы своих глубоких очей (такие глаза иначе, как очами, и назвать-то грех!) – к ногам ее лились золотые и бриллиантовые реки. Однажды мне случилось видеть, как Пиша плакала. Слезы градом падали на черный бархат платья… казалось, что она, как принцесса в старой сказке, и плачет-то бриллиантами.
Пиша Викулова дважды наживала своим голосом (и, нотабене для скептиков, только голосом; это была честная женщина) крупные состояния и дважды разорялась. Она презирала деньги и тратила тысячи как рубли, не щадя своей казны ни на свои удовольствия, ни на чужую нужду…
Во время оно на цыганках женились князья и графы, из-за цыганок стрелялись ремонтеры. Потом, когда вышла из моды манера стрелять себе в лоб из пистолета по поводу любовных огорчений, гг. Юханцевы и К° растрачивали в цыганских таборах кассы банков и, без особенного в том раскаяния, отправлялись за свои увлечения в места не столь и столь отдаленные: «Туда – на дальний север!» – как патетически воскликнул некогда червонный валет Верещагин, держа к присяжным заседателям свое последнее слово.
Я вас люблю, и вы поверьте,
Когда цыганка говорит,
Я буду вас любить до смерти…
Говорят, будто такие страстные истории действительно не редкость в таборах; что, если цыганку попутала нелегкая влюбиться, то и вправду – чуть не до смерти. Замечательно, однако, что в герои цыганских романов попадают исключительно очень богатые люди. За последние двадцать лет можно насчитать несколько миллионеров, женившихся на цыганках, но я не припомню ни одного случая, чтобы цыганка вышла замуж за бедного человека, если он тоже не цыган. За цыганов же они выходят лишь тогда, когда начинают входить в годы и теряют надежды сделать более блестящую партию.
Я заступится несколькими страницами выше за чересчур уже черно оклеветанную нравственность певиц русских хоров. За нравственность женщин цыганских хоров не приходится даже вступаться: всем известно, что, пока не разрешит табор, цыганка – недоступная, хотя кокетливая весталка; ее не соблазнит Дон Жуан, не купит Ротшильд; против обольщения у нее есть упрямая сила воли и рабская покорность закону табора, а против насилия – пожалуй, и ножевая расплата. Все рассказы о целомудрии таборных красавиц ничуть не преувеличены. «Улыбками и глазками, но больше ничего!» – поет цыганский романс. Груня Лесковского «Очарованного странника» – типическое воплощение романических отношений женщины табора к стороннему человеку…
А меня с красотой продадут, продадут! –
стонет в песне молодая цыганка, но у нее и в мыслях не бывало в отчаянии этом бороться, чтобы не быть проданною, хотя продадут ее даже не те, кто имеет на нее родственное право – бессовестный отец, жадная мать: нет, продаст ее общество, т. е. табор. Силою патриархальной традиции девушка, уходящая из табора, должна быть выкуплена, и, кто даст за нее большую цену, т. е. калым, тот ее и владелец. Цыганка – собственность не своя, не семьи, но рода: она как бы символическая невеста всех мужчин табора, и они уступают свое право на нее посторонним искателям лишь за высокую цену, определяемую родовым советом. Таковы цыгане всюду…
– Но чтобы получить из табора цыганку, –
Известно ль вам? – нужна расплата!
– Что ж? Очень рад: я заплачу!.. –
переговариваются в ущелье Сьерра-Морены Хозе и Эскамильо. А красавица московских Грузин плачет, что ее «с красотой продадут, продадут!»
Антропологи ездят изучать историческую эволюцию брака, разыскивая символы архаической полиандрии, племенной семьи, на Цейлон, в центральную Африку, на берег Маклая. Зачем забираться так далеко? Лет сорок тому назад полиандрическую племенную семью представлял собою, если не de facto, то de jure, любой цыганский табор – полухристианский, полуязыческий, а сейчас, не сохранив за собою власти уже и юридической, он все же пользуется символическими привилегиями: привилегией согласия выпустить из своей среды принадлежащую ему девушку, привилегией выкупа. Пушкинский Алеко, зарезав молодого цыгана и Земфиру за нарушение своих супружеских прав, конечно, и не подозревал, что, с цыганской точки зрения, не молодой цыган, но он, Алеко, – нарушитель брачного закона; что как женщина одного табора Земфира столько же принадлежит молодому цыгану, как и ему – и не только по праву любви, но и по праву обычая. Другое дело Мариула, покинувшая старого цыгана: это была преступница и на цыганский взгляд, так как сбежала к мужчине в чужой табор из своего. Против святыни таборных привилегий пойдет лишь разве очень обруселая и эмансипированная городская цыганка. Кочевая же или полуоседлая – если влюбится в человека, не угодного табору, перенесет жестокие страдания неудовлетворенной страсти, ревности, отчаяния, она истомится, иссохнет, она руки на себя наложит, наконец, но не отдастся своему любовнику и не уйдет с ним от своих. А если уж – раз из сотни случаев – выйдет такая беда, и сбежит она из табора с воспрещенным ей милым дружком – ни долгого счастья, ни радостного житья из таких союзов не получается. Само собою понятно, что уже давным-давно нет и в помине тех знаменитых романических убегов, когда похититель-гусар с денщиками должен был отстреливаться с бешеной тройки от свирепой погони целого табора; когда беглую цыганку надо было держать под строгим караулом, как пленную царевну, под вечным страхом, что вот-вот ее выкрадут, подстрелят или прирежут мстительные родичи. Тем не менее, цыганке-отступнице жизнь не в радость: она чувствует себя как бы под проклятием родного племени, тоскует, ожесточается, любовь ее понемногу переходит в ненависть, и, если табор простит и позволит, в один прекрасный день она – снова в таборе. Связь цыганки с табором настолько крепка, что даже «продажные», т. е. отпущенные из табора за выкуп, замужние женщины сохраняют дружеские отношения с прежними подругами. Я уже сказал, что в Москве можно указать нескольких капиталистов, женатых на простых цыганках. В древнейшем княжеском русском роде Г. женитьба на корифейках цыганских хоров – какая-то наследственная мания. Эти цыганки-княгини, цыганки-миллионерши запросто бывают в гостях у табора, и табор бывает у них, и для табора они не «их сиятельства», но, по старой памяти, – Паши, Нади, Груни…
В настоящее время таборы все быстрее и быстрее разлагаются, безвозвратно теряя свою первобытную цельность и оригинальность. Первым утрачен костюм, вторым – тип пения, теперь вымирает национальность. В таборах появилось много русских по крови – преимущественно женщин. Это результат необходимого вырождения: цыгане, как всякое кочевое племя, подверглись ему с тех пор, как закон вывел их из-под изодранных шатров и пришпилил прописанными в участки паспортами к определенному, оседлому местожительству. Цивилизация понемногу съела дикую поэзию и экзотическую красоту цыганщины. Измельчала раса, реже стали хорошие голоса, пришлось пополнять хоры красивыми и голосистыми певицами «с воли». Эти последние не сумели скопировать ни дикой цыганской грации, ни природного своеобразного вокального таланта, каким награждено от Господа Бога, взамен всех остальных благ, едва ли не каждое дитя этого загадочного племени. Вместо того, пришельцы познакомили цыганщину с опереточно-кокоточным репертуаром и тоном, господствующими теперь в таборах не меньше, чем в русских, немецких, венгерских хорах. Таборы, как сказал бы г. Лейкин, «оболванились». Пошли Земфиры на манер омоновских француженок: с волосами, крашенными в золотистые цвета à la lionne или à la Sarah Bernhard[18], и Алеко, остриженные бобриком, с бородками Буланже. Хранителем традиций цыганского пения считается армянин Давыдов, хранительницей – еврейка, опереточная артистка Раисова. Да и эти знают и поют только новый, пошлый репертуар оседлой цыганщины. Вероятно, цыганский жанр окончательно выдохнется и исчезнет еще на наших глазах. До какой степени ослабела их притягательная сила, видно было по отчаянию старшин цыганских хоров при появлении в Петербурге и Москве действительно увлекательных и оригинальных неаполитанских квартетов… «Funiculi funiculi», «lo parto a Venezia», «Carme»[19] сразу вытеснили из моды и «Перстенек», и «Караул», и «Трын-траву», и прочие пошлости цыганского репертуара последних лет.
Жизнь цыган в Москве – жизнь замкнутая. Девушка – под строгим надзором и в строгом послушании у старших. Пожилые цыгане с большим неудовольствием смотрят на вторжение в таборы иноплеменного начала, особенно русского, – не по какой-либо национальной атипатии, но по несоответствию замкнутой цыганской семьи с нравами и обычаями новых пришелиц в нее с воли. Молодых цыганок берет зависть на сравнительную свободу русских подруг, и они понемногу сами выбиваются из повиновения семейному строю. Много цыган женаты на русских: семьи их, конечно, уже совершенно обрусели. Дети учатся в гимназиях и, понятно, не стремятся ни в степь, к костру конокрадов, по примеру дедов, ни в кабинеты Яра и Стрельны, ни на концертную эстраду Славянского базара, – по примеру отцов. Родители, сознавая, как гибнут их старинные ремесла, сами отстраняют от них свое молодое поколение. Пиша Викулова, например, дала своим братьям университетское образование. Молодое женское поколение, за баснословно редкими исключениями, совершенно невежественно: дикие, красивые зверьки, полные затаенной чувственности. Большинство даже безграмотно. Я не поверил бы своим глазам, увидав цыганку, читающую хотя бы «Московский листок». Кроме своего богатейшего аппетита, ловкого природного кокетства да голоса, если имеется таковой и мало-мальски недурен, их ничто не интересует.







